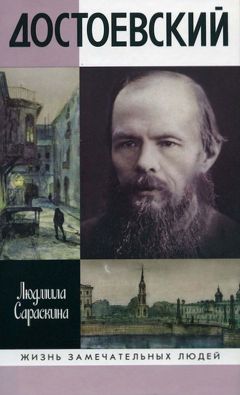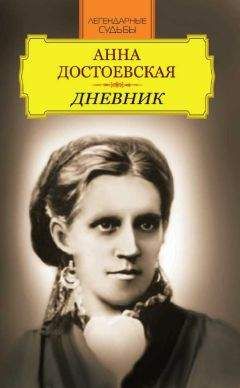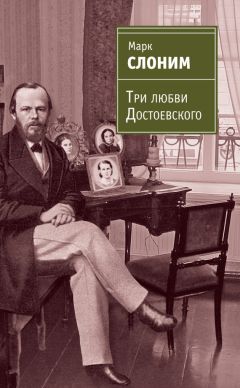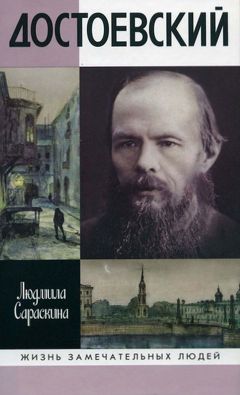Яновский наблюдал жизнь и быт своего пациента с близкого расстояния, был свидетелем забавных сторон и смешных случаев его поведения; видел недержание денег в кошельке приятеля и вечную нужду в них; замечал его мнительность, щепетильность, брезгливость ко лжи; разделял с ним любовь к итальянской опере, танцевальным вечерам у Майковых, товарищеским обедам в H^tel de France и обеденным спичам; бывал тронут гуманным обращением Ф. М. с начинающими литераторами; запомнил его неутолимое восхищение Гоголем — великим учителем нации: ведь в каждом русском есть «и патока Манилова, и дерзость Ноздрева, и аляповатая неловкость Собакевича, и всякие глупости и пороки». А Достоевский всю жизнь был признателен доктору за его заботливое врачевание.
«Вы один из “незабвенных”, один из тех, которые резко отозвались в моей жизни... Ведь Вы мой благодетель. Вы любили меня и возились со мною, с больным душевною болезнию (ведь я теперь сознаю это), до моей поездки в Сибирь, где я вылечился... На всю жизнь Вам искренне преданный...» — напишет он Яновскому в феврале 1872 года.
Может быть, в своем позднем мемуаре (Достоевского уже несколько лет не было в живых) Яновский слегка приукрасил портрет друга, изобразив его примерным молодым человеком, не гонявшимся за юбками, не любившим вина, не признававшим карт. Но на описание наружности писателя, каким он был в 1846—1848 годах, биограф может вполне положиться; сильный медицинский акцент здесь совсем не помеха. «Роста он был ниже среднего, кости имел широкие и в особенности широк был в плечах и в груди; голову имел пропорциональную, но лоб чрезвычайно развитой с особенно выдававшимися лобными возвышениями, глаза небольшие светло-серые и чрезвычайно живые, губы тонкие и постоянно сжатые, придававшие всему лицу выражение какой-то сосредоточенной доброты и ласки; волосы у него были более чем светлые, почти беловатые и чрезвычайно тонкие или мягкие, кисти рук и ступни ног примечательно большие. Одет он был чисто и, можно сказать, изящно; на нем был прекрасно сшитый из превосходного сукна черный сюртук, черный каземировый жилет, безукоризненной белизны голландское белье и циммермановский цилиндр; если что и нарушало гармонию всего туалета, это не совсем красивая обувь и то, что он держал себя как-то мешковато, как держат себя не воспитанники военно-учебных заведений, а окончившие курс семинаристы. Легкие при самом тщательном осмотре и выслушивании оказались совершенно здоровыми, но удары сердца были не совершенно равномерны, а пульс был не ровный и замечательно сжатый, как бывает у женщин и у людей нервного темперамента».
Все же доктор Яновский, преданный памяти друга, самокритично признавался, что их бесед за чаепитиями после врачебных осмотров пациенту не хватало и что по своим интересам и умственной деятельности он испытывал недостаток знакомств за пределами литературной сферы. И в самом деле: жестокая обида на «современников», вымещавших на нем свою ошибку, заставляла искать иного общества. Смерть Белинского в мае 1848 года, которую Достоевский, по свидетельству Яновского, воспринял как «великое горе» (той же ночью с ним случился сильный припадок «головной дурноты»), казалось, навсегда исключила возможность выиграть спор, затеянный со всей тогдашней литературой. Но слава, которую составили автору первого социального романа его бывшие покровители, все-таки успела сыграть свою роковую роль.
...Еще весной 1846 года, когда он был на вершине первого успеха, с ним завел знакомство — буквально на улице, не будучи представленным — странный и эксцентричный человек, хозяин «пятниц» в собственном доме М. В. Буташевич-Петрашевский. «Знакомство наше было случайное. Я был, если не ошибаюсь, вместе с Плещеевым, в кондитерской у Полицейского моста и читал газеты. Я видел, что Плещеев остановился говорить с Петрашевским, но я не разглядел лица Петрашевского. Минут через пять я вышел. Не доходя до Большой Морской, Петрашевский поравнялся со мною и вдруг спросил меня: “Какая идея вашей будущей повести, позвольте спросить?” Так как я не разглядел Петрашевского в кондитерской и он там не сказал со мною ни слова, то мне показалось, что Петрашевский совсем посторонний человек, попавшийся мне на улице, а не знакомый Плещеева. Подоспевший Плещеев разъяснил мое недоумение; мы сказали два слова и, дошедши до Малой Морской, расстались. Таким образом, Петрашевский с первого раза завлек мое любопытство».
Но случайным знакомство только казалось. Общению со странным и эксцентричным человеком Достоевский был обречен, хотя не скоро стал постоянным посетителем «пятниц» — уедут братья Бекетовы, уйдет из жизни Валериан Майков, своего кружка уже не будет. «Любовь Федора Михайловича к обществу была до того сильна, — свидетельствовал Яновский, — что он даже во время болезни или спешной какой-нибудь работы не мог оставаться один и приглашал к себе кого-нибудь из близких». Ему давно хотелось заглянуть за горизонты литературы — ведь помимо Пушкина, Гоголя, Бальзака и Шиллера он читал Тьера, Луи Блана, Огюста Конта, Сен-Симона и Фурье. Достоевский придет к Петрашевскому только год спустя, в те самые дни, когда ему станет понятно, как стремительно падает его журнальная слава и как быстро набирает обороты его тяжба «со всей литературой и критикой». Объясняя Яновскому, зачем он ходит на «пятницы», Ф. М. говорил: «Я у Петрашевского встречаю и хороших людей, которые у других знакомых не бывают; а много народу у него собирается потому, что у него тепло и свободно... наконец, у него можно полиберальничать, а ведь кто из нас, смертных, не любит поиграть в эту игру... Но вы туда никогда не попадете — я вас не пущу».
Из объяснения (если Яновский верно его запомнил) следовало: Достоевский все же осознавал опасность «игры в либерализм». Территория «пятниц» была свободна от недругов (никто из кружка Белинского туда не ходил). Ф. М. тянуло к другим людям — тем, кто не бывал ни у Бекетовых, ни у Майковых, ни на «четвергах» у Краевского, ни на посиделках в «Современнике», ни в салонах Соллогуба или Одоевского, ни на дружеских обедах в H^tel de France.
Весной 1847 года рядом с Достоевским не оказалось никого, кто бы мог повлиять на него и предостеречь от рокового шага.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
В ТЕНИ БАРРИКАД
Глава первая
«ФРАНЦУЗЫ НАСТОЯЩЕЙ МИНУТЫ»
В центре Парижа. — Революционная эпидемия. — Паломники прогресса. — Эксцентрик Петрашевский. — Разговорное общество. — Поэзия фаланстера. — Таинственный Спешнев. — Поединок самолюбий. — Игра на «левом» поле
В те самые февральские дни 1848 года, когда Белинский возвестил о падении «Достоевского-гения», а в Третье отделение поступил анонимный донос на вредное направление «Отечественных записок» и «Современника», в Европе происходили куда более грозные события. В ночь на 24 февраля полторы тысячи баррикад в центре Парижа возвестили, что мир потрясен до основания. Толпы восставших взяли штурмом Пале-Рояль и окружили королевский дворец Тюильри, требуя, чтобы король Луи Филипп отрекся от престола.