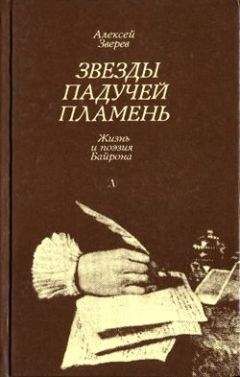Он не отвечал на эти низости, избегал всяких упоминаний о трагедии в своих письмах, замкнулся, окаменел. А судьба уже приготовила новый удар. Лето того года проводили в Виареджо, на море. И Шелли, и Байрон построили яхты: одну назвали «Дон-Жуан», другую – «Боливар», в честь революционера, возглавившего в Южной Америке восстание против колонизаторов-испанцев. Начало июля в этих местах – время прозрачного неба и полного безветрия: неподвижный густой воздух, зной, тишина; Шелли, уезжавший по делам, решил вернуться из Ливорно на «Дон-Жуане». Внезапный шторм застиг яхту в десяти милях от берега. Это был смерч, какой выдается в заливе Специя, может быть, раз за все лето. С наблюдательной башни видели в бинокль, как капитан Уильямс и юнга рубят мачту, потом все заволокло сумраком. Тела погибших выбросило волной несколько дней спустя. Шелли не дожил чуть меньше месяца до своего тридцатилетия.
Байрон присутствовал на погребении. Зная атеистические взгляды Шелли, обошлись без церковной службы. Был устроен костер прямо на пустынном побережье. Урну с пеплом передали Мэри Шелли, захоронившей ее на римском кладбище, рядом с могилой сына; сердце поэта она берегла до конца своих дней. А в Лондон отправилось письмо Байрона общим литературным знакомым: «Как неверно все вы судили о Шелли, который был лучшим и самым бескорыстным из встретившихся мне людей – без всякого исключения».
Теперь его удерживала в Италии только Тереза. Она со всегдашней своей горячностью повторяла, что последует за возлюбленным даже на край земли, хотя бы он собрался к Боливару в Перу, о чем Байрон думал очень серьезно. Пока что перебрались в Геную. Надо было помочь овдовевшей Мэри, которую родственники Шелли по-прежнему не признавали. Байрон поручил ей готовить к печати «Дон-Жуана». И занялся сборами в Грецию. Лондонский комитет помощи восставшим грекам назначил его своим представителем на месте событий.
Через семь лет, когда появится первая биография Байрона, составленная Томасом Муром, Мэри Шелли напишет ее издателю, что в этой книге она нашла живые черты человека, с которым так тесно переплелась ее собственная жизнь: «Здесь его притягательная сила, его капризность, детская обидчивость, ум философа, и владевший им дух противоречия, и уменье становиться ангелом во плоти, и капризы, и колкости, и мрачность, и способность дарить радость, как никто в целом свете». Таким она запомнила Байрона в последнюю его итальянскую весну. А в «Дон-Жуане», в неоконченной семнадцатой главе, собственноручно ею переписанной, она могла прочесть вот это признание:
Во мне всегда, насколько мог постичь я,
Две-три души живут в одном обличье.
Но песнь пятнадцатая, тоже сочиненная в Генуе, содержала признание еще более важное, пусть оно выражено шутливо: «Я, увы, рожден для оппозиции».
Сколько бы ни соединялось в Байроне до непримиримости разнородных душ, эта – душа оппозиционера, бунтаря, поборника вольности – главенствовала надо всеми.
16 июля 1823 года Байрон отплыл на греческий остров Кефалония, откуда путь вел в Миссолонги – последний город, который ему довелось увидеть.
«Тираны давят мир, – я ль уступлю?»
Холмы глядят па Марафон,
А Марафон – в туман морской,
И снится мне прекрасный сон -
Свобода Греции родной.
БайронПримерно за полгода до отъезда Байрона к берегам Эллады Пушкин написал из Кишинева брату Льву: «Мечта воина» привела в задумчивость воина, что служит в иностранной коллегии и находится ныне в бессарабской канцелярии». Левушка без труда понял эту вынужденно туманную (письма вскрываются) фразу: воин, который служит в канцелярии, – сам поэт, «Мечта воина» – его старые, еще в 1821 году сочиненные стихи, за двумя звездочками вместо подписи напечатанные теперь в журнале будущих декабристов Рылеева и Бестужева «Полярная звезда», а задумчивость – о том, не продолжить ли те стихи реальным поступком. Стихи же, которые мы теперь знаем под заглавием «Война», сложились при первых известиях о греческом восстании. Вот они:
Война! Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести;
Засвищет вкруг меня губительный свинец.
И сколько сильных впечатлений
Для жаждущей души моей:
Стремленье бурных ополчений,
Тревоги стана, звук мечей,
И в роковом огне сражений
Паденье ратных и вождей!
Предметы гордых песнопений
Разбудят мой уснувший гений.
Мысль отправиться в Грецию на помощь восставшим искушала Пушкина долго, тем более что по Кишиневу он знал князя Ипсиланти, одного из руководителей гетеристов, как называли себя греки – участники борьбы за освобождение. В маленькой повести «Кирджали», напечатанной в 1834 году, читаем: «Александр Ипсиланти был лично храбр, но не имел свойств, нужных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно. Он не умел сладить с людьми, которыми принужден был предводительствовать». Байрон своим опытом мог бы подтвердить в этом рассуждении каждое слово.
Тогда, в начале 20-х годов, идеей греческой свободы вдохновлялись многие – и в Европе, и в России. Декабрист Петр Каховский появляется в 1825 году среди петербургских вольнодумцев с твердым намерением ехать в Грецию, как только наберутся деньги; удержит его только близость 14 декабря. В ответах перед Следственным комитетом его товарищи по Сенатской площади не раз помянут Грецию как вдохновлявший их пример. Рылеев рифмовал «предназначенье века» с борьбой «за угнетенную свободу человека» – и думал при этом о революционной Испании, о поднявшейся Греции. В свою равеннскую встречу летом 1821 года Шелли и Байрон обсуждали «чудесную греческую революцию», и Шелли писал одному из друзей, какой страстный у них завязался спор о том, «способны ли рабы так безболезненно сделаться свободными людьми».
Для Байрона вопрос этот не был праздным, ведь, в отличие от большинства, он знал греческие нравы из первых рук. Навязчивым его чувством при сообщениях о вспыхнувшей войне стало определенное неверие. Но война разгоралась, будоража общественное мнение в европейских столицах. И он втягивался в эти события все больше.
А они накатывались бурно. Поход Ипсиланти, в начале марта 1821 года попытавшегося пробиться с отрядом добровольцев через румынские земли к Афинам и потерпевшего поражение, послужил сигналом к массовым выступлениям против турок. За этой неудачей пошли победы; вскоре была объявлена независимость и принята конституция, сулившая известные свободы. Турция ответила расширением военных действий; важный по географическому положению порт Миссолонги был осажден, многие провинции возвращены под власть султана. Европейские державы, не препятствуя деятельности добровольцев, предпочли остаться в стороне и занялись сложными политическими расчетами. В самой Греции беспрерывно сталкивались друг с другом различные партии, и освободительная война сопровождалась внутренними раздорами, принимавшими характер вооруженных конфликтов.