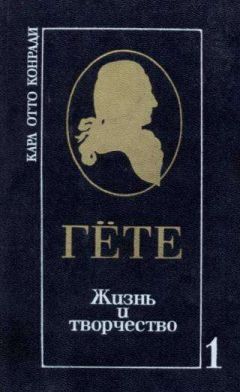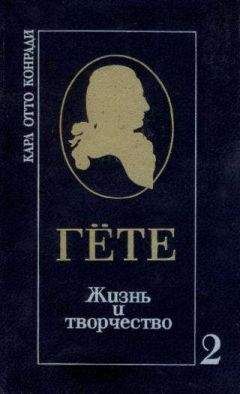Драма Гёте нечто гораздо большее (или гораздо меньшее, это зависит от точки зрения), чем художественное обличение слабостей своего времени. Не случайно драматург писал, что «влюбился» в созданную им Адельгейду — радость творческого созидания определяет художественный смысл драмы. Это привело к тому, что в симпатии Гёте к большому человеку оказалось второстепенным, в какой мере защищаемые им принципы поведения имеют актуальное значение. Испытать свои творческие возможности с оглядкой на Шекспира — вот что двигало юным Гёте, когда он
182
на одном дыхании писал своего «Готфрида фон Берлихингена». Он показал себе и другим, какой силой обладает его язык. Ему удалось из языка Лютера и народных речевых оборотов создать своеобразный язык и к тому же варьировать его применительно к каждому действующему лицу, так как при дворе или среди законоведов говорят иначе, чем в среде цыган. Какое удовольствие должен был испытать Гёте, вкладывая в уста Олеариуса и шута Либетраута полные намеков речи о Франкфурте, причем приходится остановить шута, продолжающего злословить: «Возле Франкфурта есть урочище, зовется Заксенхаузен…»
Гёте снабдил своего Гёца представлениями о некой сомнительной утопии, где сочетаются свобода и порядок. Тем самым он касается вопросов, выходящих далеко за пределы специфической ситуации, в которой находился рыцарь эпохи кулачного права: каким образом могут претвориться в жизнь деятельность и свобода и какой этому должен соответствовать порядок. Показывая своего Гёца в прошлом действующим, он указывал на современность, где возможности действовать оказывались под вопросом.
На всем протяжении драмы возникают контрасты, оттеняющие образ жизни и образ мыслей Гёца, и не только в виде персонажей «противной стороны», но и в рассказах и размышлениях в кругу рыцарей. Свобода и активность контрастируют с пленом и бездельем; отвращению к беззаконию, верности данному слову противостоят нарушение слова, хитрость, коварство (потому–то нарушение слова самим Гёцем, втянутым в Крестьянскую войну, так много значит); безусловной верности во взаимоотношениях между патроном и подчиненными ему людьми противостоит эгоизм стремления к власти; сильной воле — слабоволие; прямоте — хитрость; естественной простоте — придворный мир видимостей, интриг и этикета.
Все это, однако, не подлежит осуждению с точки зрения некой инстанции, выносящей безапелляционные приговоры о зле и добре. Иначе какой же это был бы «чудесный ящик редкостей»? Пестрота и многообразие и составляют полноту бытия — ее–то и раскрывает пьеса, представляет ее, делает наглядной в смене множества сцен. В этой панораме различно прожитых жизней слова о столкновении свободы наших стремлений с необходимым ходом целого относятся не только к Берлихингену. Он не единственный, кто терпит поражение.
Как много почерпнул юный писатель из собствен–183
ного опыта, создавая образ Вейслингена — непостоянного и неверного, — совершенно очевидно, если бы даже в письме к Зальцману (октябрь 1773 г.), которому поручено было послать «Гёца» в Зезенгейм, Гёте и не сказал слов о том, что бедная Фридерика несколько утешится, когда неверный будет отравлен. То, что дало себя знать уже в «Совиновниках», стало очевидным в «Гёце»: творя, лепя характеры, Гёте как бы следовал за различными формами поведения во всем их многообразии, точно примеряя их на себя и других с их мотивами и последствиями, не обвиняя, а только показывая, не осуждая, а высвечивая их многообразие. При этом Гёте использовал и собственный опыт, объективируя его в художественных образах и отодвигая тем самым на известную дистанцию, позволяющую охватить его в целом. Не все могло быть, да и не должно было быть, обосновано с железной необходимостью, как писателем, так и его позднейшими интерпретаторами.
Поэтическое исследование многообразия человеческих жизней, включающих в себя добро и зло, — вот к чему стремился Гёте здесь и в дальнейшем, сам всегда вопрошающий и ищущий. Только таким образом можно понять различия его пьес: «Гёц», «Клавиго», «Эрвин и Эльмира», «Клаудина де Вилла Белла», «Стелла» и наряду с ними — фарсы и фастнахтшпили. Сказанное Гёте после «Стеллы» можно отнести к его творчеству начиная с «Совиновников» (уже «Капризы влюбленного» были попыткой анализа собственного опыта и поведения): «Мне надоело жаловаться на судьбу людей нашего поколения, но я хочу их изобразить, дабы они узнали себя так же, как их узнал я, и стали бы если не спокойнее, то более сильными в своем беспокойстве» (Иоганне Фальмер, март 1775 г.). И удивительная, много раз обсуждавшаяся «открытость» эпилогов гётевских драм становится теперь понятной. Не окончательная гибель, не полная катастрофа, а намек хотя бы на примирение, смягчение катастрофы, проблеск надежды. Зритель, читатель, исследователь поставлены в затруднительное положение относительно концовок, не легко поддающихся истолкованию: не только «Фауста», но уже и «Совиновников», но и «Гёца фон Берлихингена», где мирно умирающий Гёц произносит слова: «На деревьях наливаются почки, все полно надежды».
Драму о Гёце Гёте завершил, планы других пьес о могучих индивидуальностях остались в набросках.
184
От драмы о Цезаре, которая, как видно, занимала его вплоть до первых лет пребывания в Веймаре, сохранилось лишь несколько фраз; о «жизни и смерти другого героя», а именно Сократа, «философского героического духа», шла речь в начале 1772 года в письме к Гердеру, а в конце 1772 — весной 1773 года Гёте написал прозаическую сцену для драмы о Магомете. Стихотворение «Песнь о Магомете», предназначенное первоначально для этой пьесы, — вот и все, что нам известно.
«Гёц фон Берлихинген» был издан в июне 1773 года Гёте и Мерком; успех оправдал риск, сопряженный с публикацией. Это произведение (как и годом позже «Вертер») прославило имя Гёте. Позднее слава могла стать обузой, когда заинтересованная публика ждала от него произведений в том же роде, что «Гёц» или «Вертер», в то время как писатель пришел уже давно к другим представлениям о жизни и творчестве. Естественным образом мнения о «Гёце» разделились. Те, кто, как и прежде, ждал от пьесы — во всяком случае, в отношении действия — «правильного» построения, стояли в растерянности перед вольной сменой сцен и были шокированы якобы «безыскусной» непосредственностью и грубоватой силой языка. Те же, кто после многих теоретических рассуждений о Шекспире как истинном образце для немецкой драмы ждал соответствующей пьесы, были в восторге. Когда в 70–х годах выступили со своими драмами Якоб Михаэль Рейнхольд Ленц, Максимилиан Клингер, Леопольд Вагнер, критикам представился случай отнести эти драмы к произведениям той же манеры. «Без предшествующего «Гёца фон Берлихингена» нынешняя трагедия [речь шла об «Оттоне» Клингера], конечно, не появилась бы, — можно было прочесть в 1776 году во «Всеобщей немецкой библиотеке» Фридриха Николаи. — Следовало ожидать, что необузданная, беспорядочная манера, в которой написаны новейшие немецкие пьесы, найдет достаточно скоро довольно подражателей». Слово «шекспиризировать» вошло в употребление и было уже в 1768 году сказано применительно к «Уголино» Герстенберга. («Нет, тут слишком уж сумасбродная шекспиризация!» — писал К. Ф. Вейсе К. В. Рамлеру.) Когда К. Г. Шмид в связи с «Гёцем» восклицал: «Но мы считаем, что у Шекспира нет никакой формы!» («Тойчер Меркур», 1773 г.), ясно выступали принципиальные различия в точках зрения. Как можно было с подобных позиций понять «живое