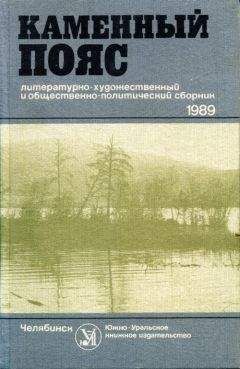Она поклонилась молодым, забрала свой ватник и, грузно ступая по половицам, вышла.
Свадьба угомонилась. Крепким, нетревожным сном спал баянист. В летней пристройке шушукались студентки. Фыркал под рукомойником парень, освободившись, наконец, от городской одежки. Луна встала над домом, над речкой, над заречными лугами. Тихо было на белом свете. Только на околице, у заброшенного родничка со старыми тополинами, одиноко посвистывала Дашка-соловей.
Деревья росли тогда прямо в дощатом полу танцплощадки: две березки и тополь. Березки стояли рядышком, ближе к выходу, и в их листве прятались электрические лампочки. Тополь же рос поодаль, лампочек на нем не было, около него и собирались мы, парни, в перерывах между танцами. А многие, вроде меня, так и весь вечер простаивали здесь. Не то чтобы я не умел танцевать или стеснялся девушек приглашать, а вот нравилось просто так наблюдать, слушать, как парни то хвалят, то хают своих партнерш. Но когда наш оркестрик начинал вальс, я выбирался из толпы ребят и смело направлялся к девчатам. А они уже расступались, подталкивали ко мне Алену.
Вот ради этого вальса я и ходил на танцы каждое воскресенье. С Аленой мы жили рядом, работали в одном цехе, но в будни она казалась мне самой обыкновенной заводской девчонкой. Даже и не знаю, как случилось, что я ее пригласил когда-то на вальс. А вышел с ней на середину танцплощадки, положила она мне руку на плечо, и я ахнул: куда девалась Аленка — заводская девчонка! Фея передо мной, честное слово! Смешно теперь говорить об этом, но тогда мне всерьез показалось, что весь свет с берез к Алене перешел. Так она и сияла вся: глаза, волосы, улыбка. И кружилась со мной неслышная, воздушная. Только ее и стал приглашать на вальс с тех пор.
Осень была уже близко, когда однажды я сказал Алене:
— Ну, давай станцуем последний раз. Завтра уезжаю.
И снова фея показалась мне обыкновенной заводской девчонкой: потемнела лицом, погасли звездочки в глазах, сжалась, стала маленькой.
— Зачем, куда уезжаешь?!
— Да мир велик! Не все же в нашем городе жить. На стройку большую еду, там людей посмотрю, себя покажу. А танцевать и там, наверное, девчата умеют.
Вот как обидел я тогда Алену. Повернулась, ушла, вальс на середине оборвала. И ведь права оказалась: незачем уезжать. И стройка была, и людей хороших много встретил, и девчата там не хуже танцевали, и сам кое-чего добился, а городок наш во сне снился: и новый цех, который уже без меня выстроили, и березки на танцплощадке.
Через много лет вернулся домой. Деревьев на танцплощадке больше не было, пол дощатый давно асфальтировали, а у Алены уже и дочь на танцы бегает.
И сам я снова сюда пришел по делу. Гостил у меня племяш, Геннадий. Договорился он с друзьями остаток каникул в горах провести, ждал от них телеграмму, чтобы на нашей станции к ним присоединиться. Вот и принес я эту телеграмму сюда, на танцы. Поезд через несколько часов приходил, а Геннадия я нигде не мог найти. Народу было битком, и все парни показались на одно лицо, вихлястые какие-то, несобранные, что ли. Подумал: вальс, поди, и танцевать-то не умеют.
И вдруг, как по заказу, ребята в алых вельветовых курточках, будто устали дудеть развеселые мотивы, заиграли тихонько вальс. И вижу: из толпы парней Геннадий вышел и смело так к девчатам. Расступаются те перед ним, кого-то к нему подталкивают, знают, видно, кого приглашать идет. Никогда своего сердца не слышал, а тут показалось, что на всю танцплощадку отстукивает — так была похожа Генашкина девушка на Алену.
Вышел он с ней на середину танцплощадки, она положила ему руку на плечо, закружилась с ним неслышная, легкая, вся в бликах света. А как смотрела она на Геннадия, сколько радости было в ее взгляде! Вальс звучал негромко, неспешно и будто нес их в дали, им двоим неизвестные…
Домой я вернулся за полночь. Геннадий уже спал. Я открыл окно, вытащил из кармана телеграмму, разорвал ее мелконько и долго смотрел, как играет с синими листочками ночной ветерок.
Первой его увидела Петровна, метнулась во двор.
— Нинка, Нинка! — кричала она в открытое окно на втором этаже. — Приехал, приехал! Беги, встречай!
Нина только что поднялась к себе, умывалась после работы. С мокрыми руками, капельками воды на жидких косицах она выскочила во двор. Сына уже окружили, тормошили соседки.
В своей комнатушке она то бросалась к плитке, кидала в кипящее масло плоские магазинные котлеты, то принималась нарезать огурцы, то скрипела дверцей шифоньера, хотела достать новую куртку. Еще до армии мечтал о такой.
Сын уснул, сморенный встречей, ужином, бутылочкой. А Нина все искала заделье, то и дело подходила к спящему сыну.
Он красивый, здоровый. В детстве ни разу не болел, не знала с ним горя, не таскалась по поликлиникам, а в армии и вовсе стал здоровяком. Ишь, шею-то наел.
Нина рада, что он сразу с поезда пришел к ней. А как иначе? Жена — свистулька, девчонка, с ней еще успеет намиловаться, а она — мать. Мать обижать не след.
Она берет в руки фуражку, трет рукавом околышек. Вешает на плечики солдатскую форму. А на душе горечь, пыталась отмахнуться от нее, ничего не вышло.
Весь этот длинный хороший вечер, когда еще сбегала по лестнице навстречу сыну, и потом хлопотала за ужином, и все чувствовала вместе с радостью вот эту горечь, а не знала, откуда она. Искала, перебирала сегодняшний день, ничего особенного не нашла и вдруг вспомнила. Будто снова услышала, как кричала ее Петровна, и уже не могла, не хотела удерживать слезы, да и не удержать было их.
Нина подошла к столу, вылила остаток из бутылки в стакан, закусила котлетой. Ну зачем, зачем при нем-то так? Ладно раньше или без него — зови как хочешь. А при нем? Большой ведь. Она снова посмотрела на спящего, погрелась сердцем. — Да ну их всех. В своем глазу и бревно не видят. А чем она хуже? С мужиками не везет, вот и его отец… Но это уж кому какое счастье выпало. Зато сын вырос справный, ни под чьим окном не кусочничал, в обносках не ходил. По две смены работала, а попробуй постой весь день у плиты, посмотрю на тебя… Учиться в школе дальше не захотел, дак что, в техникум потом поступил, не всем шибко ученым быть. Не пьет, не курит. Разве что в армии начал, так вроде папирос не видно. Вот, правда, рано женился, дак что за беда? Вон какой красавец, а девки нынче сами на шею вешаются…
Всхлипнула, а горечи меньше уже осталось. Сына ждала, верила: вот приедет, и у нее сложится наконец семейная жизнь, и ее станут величать по имени-отчеству.