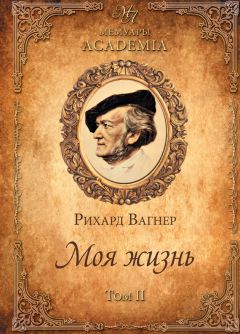Некоторое удовлетворение доставило мне известие из Берлина о двух новых постановках «Риенци»: спектакли прошли с большим успехом. Заслугу эту приписал себе капельмейстер Тауберт, ибо, как он сообщал, ему удалось особенно эффектно их провести. Тем не менее рассчитывать на прочный и доходный успех в Берлине не приходилось, и я был вынужден написать фон Люттихау, что для сохранения бодрости духа и работоспособности мне необходимо надеяться на повышение моего содержания. Ожидать сколько-нибудь значительного притока доходов извне или с моих неудачных издательских предприятий не было никаких оснований, а при урезанном мизерном окладе немыслимо существовать. Я стремился только к одному: чтобы меня сравняли с коллегой Райсигером, что и было с самого начала обещано.
Тут наступил момент, когда господин фон Люттихау мог дать почувствовать всю силу моей зависимости от него. После того как на личной аудиенции у саксонского короля я просил как о милости об умеренном повышении моего оклада, господин фон Люттихау обещал со своей стороны в случае запроса дать благоприятный обо мне отзыв. Как же был я поражен и глубоко пристыжен, когда он пригласил меня однажды для объявления резолюции, приложенной к его отзыву. В этом отзыве было сказано, что, переоценивая свой талант и прислушиваясь к нелепым восхвалениям со стороны экзальтированных друзей (между ними была упомянута и госпожа фон Кённериц), я считаю себя вправе претендовать на такое же признание своих заслуг, какое приобрел Мейербер. Благодаря этому я до такой степени запутался в долгах, что являлось бы уместным совершенно уволить меня, если бы мое прилежание и кое-какие несомненные заслуги (как, например, по обработке глюковской «Ифигении») не побуждали дирекцию сохранить меня в виде опыта на моем посту. По этой причине дирекция считает все-таки возможным согласиться на улучшение моего материального положения. Далее я читать не мог и, совершенно онемев от изумления, вернул моему доброжелателю его бумагу. Фон Люттихау моментально заметил впечатление, произведенное ею, и стал успокаивать меня, указывая на то, что просьба моя уважена, что причитающиеся мне 300 талеров я могу в любую минуту получить из кассы. Я удалился молча, соображая, чем ответить на это издевательство. Идти за получением 300 талеров для меня было немыслимо.
211
Пока я изнывал под гнетом всевозможных неприятностей, пришло известие, что прусский король в ноябре посетит Дрезден, и назначен был, по его особому желанию, к постановке «Тангейзер». И действительно, он присутствовал на спектакле вместе с саксонской королевской фамилией и с видимым интересом следил за оперой от начала до конца. Мне рассказали, как он объяснил свое отсутствие на «Риенци»: он отказался слушать оперу в Берлине, так как дорожил своим впечатлением и был совершенно уверен, что она может быть исполнена в его театре только плохо. Как бы то ни было, это событие вернуло мне душевное равновесие настолько, что я мог взять 300 талеров, в которых так нуждался.
По-видимому, господин фон Люттихау нашел для себя удобным вновь снискать мое доверие. Из всего его ничем не омраченного поведения я мог заключить, что этот нечуткий человек не сознавал даже, как глубоко он меня обидел. Он снова заговорил со мной об организации оркестровых концертов по ранее предложенному мной плану, но стал уговаривать согласиться, чтобы концерты эти исходили не от руководства оркестра, а от дирекции и исполнялись в театре. Я выговорил, чтобы доходы с этих концертов шли в пользу оркестра, и тогда охотно принялся за выполнение проекта. Сцена театра была снабжена особым разработанным мной приспособлением: весь оркестр помещался в глубине павильона, чем обеспечивался превосходный резонанс, и театр превращался в прекрасный концертный зал. В течение каждого зимнего сезона предполагалось давать шесть концертов. Так как мы начинали со второй половины зимы, то объявлен был абонемент на три концерта, и тотчас же все места были раскуплены. Все эти хлопоты доставляли мне удовольствие и в некоторой степени развлекли меня. Таким образом, 1848 год я встретил в бодром настроении.
В январе был дан первый из этих концертов, и уже одним необыкновенным составом программы я заслужил всеобщее одобрение. Я нашел, что такие концерты, если они претендуют на серьезное значение, отнюдь не должны быть похожи на обычные предприятия подобного рода, не должны составляться из пестрой смеси разнородных жанров музыки. На них должны чередоваться два серьезных музыкальных произведения различного характера. Между одной и другой симфонией я вставил в программу два номера вокальной музыки, которых нельзя было бы услышать при других условиях.
И в этом заключался весь концерт. После моцартовской симфонии (в D-dur) я удалил со сцены музыкантов и вывел на их место внушительный хор, исполнивший Stabat Mater Палестрины[36] в моей тщательной обработке и восьмиголосый баховский мотет Singet dem Herrn ein neues Lied[37]. Затем оркестр снова занял свое место и исполнил в заключение бетховенскую Synfonia Eroica [«Героическую симфонию»].
Успех концерта окрылил меня. В последнее время становилась особенно противной возня с нашим оперным репертуаром, на ведение которого я постепенно терял всякое влияние. Немалую роль здесь играли притязания моей племянницы, поддерживаемые Тихачеком, на главенствующее положение примадонны. Концерты открывали хоть некоторые перспективы деятельности в качестве дирижера. Ввиду того что по возвращении из Берлина я снова принялся за инструментовку «Лоэнгрина» и погрузился в полнейшее смирение, я надеялся идти навстречу будущему с полным спокойствием, как вдруг меня потрясло горестное известие.
212
В начале февраля мне сообщили, что моя мать умерла. Я поспешил на похороны в Лейпциг и успел еще с глубоким волнением насладиться дивно-спокойным и кротким выражением ее лица. Последние долгие годы своей жизни, прежде столь деятельной и беспокойной, она провела в радостном отдыхе, сохраняя до конца дней почти детскую веселость. Умирая с улыбкой на просветленном лице, она воскликнула со смиренной кротостью: «Ах, как прекрасно! Как приятно! Как божественно! Заслужила ли я такой милости?» В резкое холодное утро мы опустили гроб в землю. Когда мы бросили на крышку комья промерзлой земли вместо горсти легкого песку, грохот был так резок, что испугал меня. На обратном пути к зятю моему Герману Брокгаузу, где должна была собраться вся семья, меня провожал только один Генрих Лаубе, очень любивший матушку. Он выразил беспокойство по поводу моего необыкновенно измученного вида. Потом он проводил меня на вокзал, и здесь нашлись слова для выражения угнетавших нас обоих чувств: время, погрязшее в ничтожестве, убивало всякую благородную инициативу. На обратном пути в Дрезден меня охватило сознание полного одиночества. Со смертью матушки порвалась последняя кровная связь со всеми братьями и сестрами, живущими своими особыми интересами. Холодный и угрюмый, я вернулся к тому единственному, что могло меня одушевить и согреть: к обработке «Лоэнгрина», к изучению немецкой старины.
213
Так наступили последние дни февраля, которым суждено было потрясти Европу новой революцией. Среди знакомых я принадлежал к тем, которые меньше всего верили в близость и даже вообще в возможность мирового политического переворота. Первые мои впечатления от подобных событий связаны с Июльской революцией, происшедшей в дни моей юности, и с последовавшей за ней систематической продолжительной реакцией. С тех пор я познакомился с Парижем, со всеми чертами его общественного уклада, и мог ждать всего, кроме серьезного революционного движения. При мне Луи Филиппом были устроены Forts détachés[38], окружающие Париж кольцом. Я хорошо изучил стратегическое распределение многочисленных, расположенных по всему городу, укрепленных сторожевых постов и был согласен с теми, которые считали, что отныне никакая попытка к поднятию народного восстания в Париже невозможна. И когда в конце минувшего года в Швейцарии вспыхнула война, а в начале следующего года удачная сицилийская революция заставила всех с напряжением следить за тем, как события эти отразятся в центре Франции, я оставался спокойным и безучастным к связанным с этими явлениями надеждам и опасениям.
Из французской столицы до нас доходили известия о все усиливающихся уличных волнениях, но в дебатах с Рёкелем я оспаривал их серьезное значение. Я сидел за своим дирижерским пультом на репетиции «Марты»[39], когда во время паузы Рёкель с торжеством сообщил мне последние известия о бегстве Луи-Филиппа[40] и об объявлении республики в Париже. Это не только удивило, но прямо поразило меня, хотя сомнение в серьезности событий вызвало на лице моем скептическую улыбку.