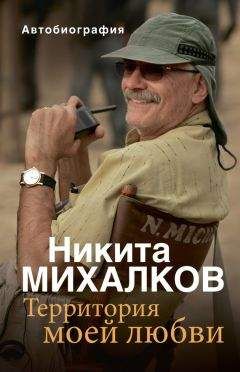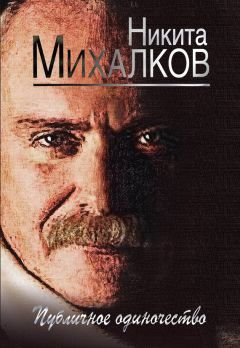Со стороны могло казаться, что быть сыном Сергея Михалкова – молочные реки и кисельные берега. Но это приносило не одну лишь радость, но и огромные проблемы – те люди, которые не любили моего отца, но не могли до него дотянуться и сделать ему что-то дурное, вымещали свою «нелюбовь» на его детях.
В этом смысле мы с братом нахлебались… Но затем мы с отцом почти поменялись ролями. Если в детстве, отрочестве, юности мне доставалось из-за чьей-то ненависти к отцу, то затем уже ему стало доставаться из-за ненависти ко мне. Но весь этот надоедный шум, звон комариный его ничуть не волновал…
Были у меня в более зрелом возрасте и трудные разговоры с ним, и серьезные споры.
В какие-то моменты помню отца неожиданно очень жестким по отношению ко мне. Однажды мы ехали в машине на дачу. Шел чемпионат мира по футболу, и я торопился к телевизору. И вдруг заспорили о том о сем. Я говорю: «Да ладно тебе. «…а у Тома, а у Тома ребятишки плачут дома». Пишешь всякую ерунду…» Он остановил машину и сказал: «Между прочим, то, что я пишу, кормит тебя, твоего брата и всю семью. Выйди из машины». И, глазом не моргнув, высадил меня и уехал. Я остался посреди дороги и пешком добирался, наверное, километров двенадцать. И, честно говоря, многое понял. Причем не испугался, что чего-то недополучу или меня накажут. Просто подумал, что это ведь чистая правда: какая тут может быть «вольная критика», если питаешься с руки того, кого ты осуждаешь? Или уходи из дома, или принимай все как есть.
Отец никогда не давил на нас. И я должен сказать, что только теперь, вспоминая его, понимаю, что такое настоящий аристократ. Его невозмутимость, даже безропотность в приятии всевозможных проблем – принцип, по которому он жил сам и учил жить нас: «От службы не отказывайся, на службу не напрашивайся». Приятие им всего, что происходит, как данности, и неучастие в том, в чем он не желает принимать участия, и та легкость и свобода, с которыми он говорил и делал то, что думает, даже сейчас изумляют и восхищают.
Сергей Владимирович Михалков (второй слева) на заседании клуба деловых встреч во время II Московской международной книжной выставки-ярмарки. 1979 г.
Никакого участия в выборе моей профессии отец не принимал… Он всегда держал ту дистанцию, которая позволяла нам с братом быть самостоятельными, и вмешивался только тогда, когда понимал, что это необходимо.
Он даже не знал, в какой именно из дней 1972‑го меня забрали в армию и куда я попал (так что все сплетни о том, будто он пытался отмазать меня, звонил министру обороны, лишены малейшего основания). Только получив первое письмо, которое мне разрешили после принятия присяги написать, он с удивлением узнал, что я нахожусь на Тихом океане, на Камчатке.
Долгие годы мы с отцом жили в достаточной автономности друг от друга. Разговаривали по телефону, но виделись нечасто. Может быть, поэтому теперь, когда его уже нет, у меня отсутствует ощущение, что я его потерял… Он все время со мной.
Когда отец скончался, его гроб на ночь установили в храме Христа Спасителя, монашенки по очереди читали Псалтирь… На другой день – во время отпевания – храм забит был до отказа, шли и шли люди проститься с отцом, – и не было ощущения ни тлена, ни смерти. Скорее наоборот – покоя и света… Конечно, нет больше человека, которому ты можешь сказать «папа», но это однажды приходится пережить всем. Нам еще очень повезло, что он был с нами так долго.
Несколько лет назад (а кажется, совсем недавно), когда мы всей семьей отмечали юбилей брата, папе кто-то позвонил, и он сказал: «Не могу разговаривать, тороплюсь на семидесятилетие сына». А семидесятилетний Андрон в это время сидел за праздничным столом и говорил кому-то: «Мы ждем, сейчас приедет отец…» Это огромная редкость и большое счастье.
* * *
Я почти не читал в детстве папиных книжек. Человеку, живущему на берегу Байкала, трудно понять, что кто-то страдает от жажды…
Никогда не видел отца работающим – серьезно, академически. Он летал. Все делалось как бы между прочим, на коленках, на салфетках. «Тс-с, папа работает!» – такого не знали в доме. Главное было другое – Союз писателей, надо куда-то пойти, выбить кому-то квартиру. А новые стихи или пьеса появлялись вдруг, словно из воздуха.
По-настоящему я оценил детские стихи отца, когда готовился к его 95‑летию. Выбирал, что почитать на вечере, открыл книжку и – обалдел. Все то, что для меня было прежде естественным и самым обычным, вдруг оказалось совершенным чудом. Вот уж поистине: что имеем, не храним, потерявши, плачем.
Я не чувствую его ухода. Хотя возможно, что мое плохое самочувствие в какие-то моменты – реакция на погоду, усталость… – связано с его отсутствием. Он был скалой, утесом, о которые многое разбивалось. И ведь не скажу, что он меня в каких-то конкретных случаях страховал или защищал. Просто было осознание, что он рядом – старший, любимый, отец…
В свое время потеря матери для меня стала более ощутима – я был моложе. А сейчас постоянно ощущаю какую-то связь с отцом. Я слышу его голос. Я запахи его чувствую!.. И это вовсе не мистическое ощущение, а очень реальное, живое.
Встреча советского руководства с интеллигенцией
Помню «гениальную» встречу советского руководства с интеллигенцией на одной из правительственных дач, куда отец взял меня с собой…
При въезде охранник спрашивает: «Оружие есть?» Я вытаскиваю игрушечный пистолет и говорю: «Есть!» Папа, совершенно забывшись, говорит: «Ты что, ох…л?» – и я это запомнил, хотя тогда не знал, что это значит.
Мы прошли внутрь. Он подвел меня к Хрущеву, который сидел в кресле на поляне, и сказал ему, заикаясь: «В-вот, Н-никита Сергеевич, у меня в семье свой Никита Сергеевич…» Хрущев поцеловал меня в лоб и вообще мне понравился: такой добрый дедушка…
А потом начался сюр. Столы президиума были составлены огромной буквой «П». В центре поперечного стола стояла стойка с шестью микрофонами для председательствующего, а им, естественно, был мой тезка. Гостей было приглашено много, поэтому часть мест оказалась за пределами шатра, натянутого над столами.
Н. С. Хрущев (справа) и писательница М. Шагинян (слева) за праздничным столом. 1958 г.
Было жарко, парило. Обед начался с приветственного слова Хрущева. Он что-то говорил непонятное мне и неинтересное. Запомнил я только, что от нас с отцом он был, как мне показалось, очень далеко, а голос его звучал не просто рядом, а словно нисходил от всего полотняного купола огромного шатра. И еще запомнился нескончаемый звон вилок, тарелок и рюмок, многократно усиленный стоявшими повсюду микрофонами, как, впрочем, и невнятный гул застольных разговоров.