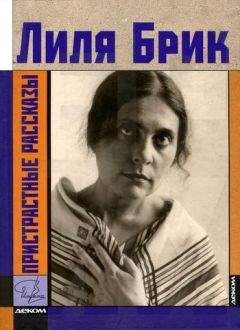Дома Гарри показал мне свои рисунки, действительно великолепные. При этом он разговаривал вдохновенно и убедительно. Он уговорил меня не ехать в Париж: «Вы слишком молоды, поезжайте в Мюнхен».
До моего отъезда оставалось недели две, мы ездили за город и целовались.
Раз, когда я была у него, пришел Ося. Мы вышли втроем на улицу. Ося был серый как туча. Он ревновал нас обоих.
Перед моим отъездом я заходила к Брикам прощаться. Это было в первый раз, что я видела Осю и думала о своем. Я была полна новых мечтаний и чувств. Ося заметил это и испугался. Он бросился целовать меня, стал просить не уезжать, остаться, говорил, что со мной уходит от него его молодость, но я была горда своим равнодушием и уехала. Через несколько месяцев за мной уехал Гарри.
Поехала я поздней весной с мамой и Эльзочкой. В Мюнхене мы остановились в пансионе, который показался мне шумным. Стали искать более подходящее жилье.
Наконец мы нашли прелестную комнату с красной мебелью и ярко-желтыми портьерами. Над письменным столом я повесила луврского скриба[7] и переехала. А мама с Эльзочкой отправились дальше на курорт.
Я поступила в студию Швегерле, которая считалась тогда образцовой. Лепили голую модель, голову, раз в неделю рисовали. Работало человек 12–15. Старостой был американец, безошибочно угадывающий под платьем тело натурщицы. Приходит хорошенькая, изящная, тонкая, он и не смотрит, а нескладную с виду берет. И, раздетая, она всегда оказывалась подходящей. Раз он как-то продемонстрировал нам тех, на которых мы настаивали, после чего мы перестали в это дело вмешиваться.
Из Москвы я получала ежедневно письма от Гарри и открытки от Оси Волка, в красочных сериях, двенадцать штук в конверте, на полотняной бумаге: огромные косматые головы Бетховена и Байрона. Получила я от него и письмо, философское и необычайно умное. Через несколько дней (удивительно не везло этому человеку) я прочла его письмо целиком в какой-то случайно подвернувшейся книге. Вместо ответа я послала ему заглавие книги и номер страницы. Получила одну открыточку и от Оси Брика, просто почтовую, без вида, и забыла ему ответить.
Заезжал ко мне из Киссингена папа. Он очень просил меня вернуться с ним в Москву, он плакал над моими погрубевшими от работы руками, гладил и целовал их, приговаривая: «Посмотри, Лилинька, что ты сделала со своими красивыми ручками! Брось все это, поедем домой». Но я решила твердо сделаться Праксителем.
Как-то во время работы моя приятельница Катя сказала мне, что приехал знакомый из России, ученик Санина — Алексей Михайлович Грановский, учиться у Рейнгардта режиссуре. Сегодня будет у нее. Из мастерской мы пошли к Кате. Грановский уже ждал. Он принес красные розы и был явно разочарован тем, что Катя не одна. Я заметила это и ретировалась. Назавтра они зашли ко мне вместе, мы где-то гуляли. А на следующий день Грановский пришел ко мне один с белыми розами. Катя не обиделась. У нее был свой роман.
Жизнь пошла рассчитанная точно. В мастерской я работала с половины 8-го утра до 6 вечера. Дома мылась, переодевалась, и за мной приходил Грановский. Мы ходили в театральный музей и по антикварам в поисках старых книг. Домой возвращались насыщенные впечатлениями, и тут Грановский показывал мне свои тетради с эскизами театральных декораций и планами своих будущих постановок. Неужели это их он осуществил в еврейском Камерном? Правда, в молодости всё кажется таким возвышенным и прекрасным.
Мы бродили до полуночи. Я слушала бесконечные рассказы о Рейнгардте, Санине, левом театре. Мы поедали моккаэйс[8] в неправдоподобных количествах. Мы сидели под луной, на холме, в греческой беседке в парке.
В одну такую ночь мы увидели издали, сквозь деревья, длинную процессию и нам послышалась тихая музыка. Процессия приближалась, и скоро мы стали различать девушек и юношей в белых покрывалах, у девушек лилии и пальмовые ветки в руках, а юноши издавали звуки гитарами и мандолинами. Процессия обошла беседку, поднялась по ступенькам и, танцуя, закружилась вокруг нас. Это дурачилась компания художников и студентов, нагоняя мистический ужас и восторг на влюбленные парочки в парке.
Каждую ночь мы возвращались пешком к Грановскому, комнатка у него была крошечная, но вход прямо с лестницы и никто не мог нам помешать. Уже светлело, когда мы спускались вниз в кафе и опять ели мороженое. Домой я уезжала на такси, на которое уходили все мои деньги.
Идиллия эта была прервана приездом Гарри, которого я ждала, и одновременно неожиданным приездом Оси Волка, который, вместо того чтобы ехать в Петербург на свадьбу брата, удрал ко мне и послал из Мюнхена поздравительную телеграмму. Он привез мне коробку эйнемского шоколада, размера которой я просто испугалась.
Я совсем замоталась. Никто из трех не должен был знать друг о друге. Ося жил в гостинице, с Гарри я бегала искать ателье, а Грановский оставался Грановским.
Несколько дней я не работала. Наконец отправила Осю в Москву — стало чуть легче. Но Гарри брал себе всё мое оставшееся от работы время. Я не любила, но бесконечно жалела его и восторгалась им. Когда я сказала Грановскому, что нам надо расстаться, он горевал страшно, не мог понять внезапного охлаждения, просил подождать, не спешить, подумать. Но я ушла, и меня почти невозможно было застать дома, так как я прямо с работы уходила к Гарри.
Через несколько дней я получила от Грановского письмо со вложенным в него билетом первого ряда на 9-ю симфонию Бетховена. Он просил меня прийти и послушать ее. Он уезжает в Россию и хочет в последний раз посмотреть на меня. Я же его не увижу.
Я оделась со всей тщательностью, пошла и просидела весь концерт. Грановского я не искала и не увидела. Сейчас я думаю отчего-то, что его там и не было.
Мастерская у Гарри была большая, с верхним светом. Стены увешаны фотографиями с Джотто, Сезанна, со всего самого изысканного.
Гарри приехал в Мюнхен для того, чтобы написать меня. Задуманы две картины: «Венера» и «Женщина в корсете».
«Женщина в корсете» будет писаться на манере рубенсовских детей и мадонн. Небольшой продолговатый четырехугольный холст. Я в розовом элегантном корсете, в очень тонких черных шелковых чулках и в атласных, черных, спадающих с пяток, утренних туфлях. Из-под корсета на груди кружево рубашки. По написанному уже портрету широкий и пышный венок из цветов, овальный, закрывающий где руку, где ногу и выписанный тщательно, опять же как у Рубенса.
Для «Венеры» холст уже натянут в три четверти моего роста. Я буду лежать голая, на кушетке, покрытой ослепительно белой, даже слегка накрахмаленной, простыней. Как на блюдце, говорит Гарри. Куплен темно-серый тяжелый шелк, он повешен густыми складками фоном позади кушетки. Куплено также множество подушек разнообразных размеров и форм, обтянутых золотой и серебряной парчой всех фактур и оттенков. Я буду полулежать. Волосы чуть сплетены и перекинуты на плечо. На одну руку я опустила голову, в другой деревянное, золоченое, найденное с величайшим трудом у антиквара венецианское зеркало. На простыне передо мной огромная пуховка в розовой пудре, губы подмазаны.