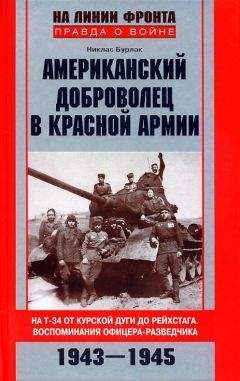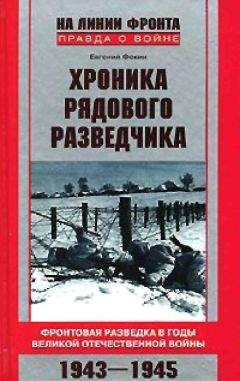Пока мы шли на лыжах, двигались, то мороза практически не чувствовали. Другое дело, когда приходилось лежать в снегу. Холод пробирался под тулупы, проникал в валенки. Мне казалось, что мои ступни и пальцы ног исколоты иголками.
Дождались трех ночи, а эшелона все не было. Прождали еще два часа, почти до рассвета, но безрезультатно. Наконец АП решил, что либо он получил неверные сведения, либо эшелон остановлен из-за сильного мороза.
— Придется возвращаться в лагерь. Дождемся новых сведений от нашего связного, — сказал он и приказал убрать из-под полотна взрывчатку и смотать провод.
Покалывания и боли в ногах я больше не чувствовал. Попробовал встать, но ноги отказывались слушаться и словно одеревенели. Я не мог ступить и шагу. АП сразу все понял и сказал:
— Ничего, парень. Вот дело сделаем и займемся тобой.
Ошеломленный, я неподвижно лежал и смотрел на то, как мои друзья заканчивают работу без меня. И это все? А какие благородные были у меня порывы! Я чувствовал себя абсолютно беспомощным. Я — обуза для моих боевых товарищей! Мелькнула мысль: из такого положения есть лишь один выход. АП, видно, догадался о ходе моих мыслей и отобрал у меня пистолет, нож и автомат. Мои друзья смастерили из маскхалата волокушу и по очереди дотащили меня до лагеря.
Седая санитарка разместила меня в теплой землянке, стащила с меня валенки, внимательно осмотрела мои ступни, обернула каждую кусками толстого ватина, приготовила большую кружку травяного чая. Я выпил его и заснул.
Проснулся, когда уже начинало темнеть. В землянку вошел АП.
— Какая стадия? — спросил он санитарку.
— Поверхностное обморожение, — ответила она.
— Волдыри есть?
— Есть несколько штук.
— Кожа какого цвета?
— Ступни обморожены, чувствительность отсутствует, цвет кожи восковой. Надо везти его в Пушкино, и как можно скорее. Там знают, что делать.
— Мамаша, — обратился я к ней как можно вежливее; я был потрясен, — речь идет об ампутации?
— Нет-нет, не об этом, сынок, — успокоила она меня. — В Пушкине есть госпиталь для партизан. Там умеют лечить обморожения. Недели через три-четыре будешь плясать.
— Ну, счастливо, парень. Увидимся после победы, — сказал АП и вышел из землянки.
Добрая санитарка дала мне еще кружку с теплым питьем, и через несколько минут я снова уснул.
Наутро я проснулся уже в Пушкине, в госпитальной палате. Лежал в кровати с мягкими подушками, чистыми простынями и теплым одеялом.
Через три недели интенсивного лечения я уже ходил без костылей, и не только по коридорам госпиталя, но и вокруг здания. Главврач пообещал, что меня выпишут со дня на день.
— Как думаете, меня примут обратно на курсы? — спросил я его.
— Вчера мы говорили о тебе с полковником Стрельцовым, — ответил главврач. — Тебе уже взяли билет на поезд Москва — Актюбинск.
Спорить было бесполезно. Итак, меня хотят отправить обратно в Казахстан. Я недоумевал: как же так, я могу самостоятельно ходить, но меня считают непригодным к службе. Как быть? Что мне делать?
Я не спал всю ночь. Утром меня выписали и на электричке отправили в Москву. К этому времени в моей голове созрел новый план. Ладно, думал я, не все пропало. Так дело не пойдет, дорогие товарищи! Разве можно со мной так — после того, чему я учился в Актюбинске и военном училище под руководством полковника Стрельцова?! Да я соберу свои пожитки, порву ваш билет до Актюбинска, в Москве пойду в военкомат и попрошусь на фронт с первым же эшелоном. Попрошу, чтобы отправили меня на Курскую дугу, на Центральный фронт, которым командует генерал Рокоссовский, отец Ады. Уж кому-кому, а ему-то обученные солдаты нужны позарез!… А вдруг попросят показать паспорт? — подумал я. Ведь там на первой же странице черным по белому написано, что я родился в Соединенных Штатах. В военкомате, увидев, что я американец, откажут — так же, как уже отказали однажды в Макеевке. Решено!
Приехав утром в Москву, я вошел в первый попавшийся общественный туалет, изорвал свой паспорт на мелкие куски и выбросил. Прощай, американец! Я родился не в США, а в Макеевке! Кто проверит? Макеевка на территории, оккупированной фашистами. Я готов бить фашистов! Имею право? Имею!
На улице Горького, неподалеку от Белорусского вокзала мне на глаза попалась вывеска: «Фрунзенский райвоенкомат г. Москвы». Вошел, рассказал дежурному военному с двумя «кубарями» в петлицах свою легенду и отрапортовал, мол, готов хоть сегодня отбыть добровольцем на фронт с любой маршевой ротой или маршевым батальоном. А вот ночевать мне негде: дом разбомбили. Показал значок «Ворошиловский стрелок» и удостоверение к нему. Офицер взял их и пошел к военкому. Вскоре вернулся и спросил:
— Фото есть?
— Конечно! — ответил я.
Через полчаса мне вручили красноармейскую книжку с приличной, сделанной еще в Актюбинске фотокарточкой, где я был с чубом и тонкими усиками. В книжке записали: «Доброволец-снайпер». Никаких «США» и в помине не осталось. Нерусский акцент? С Украины. Имя Никлас? Мама родом из Прибалтики. «Все путем!» — сказали бы в Макеевке.
Мне и другим новобранцам выдали форму: штаны и гимнастерки, ботинки, портянки, обмотки, шинели, пилотки, вещевые мешки, в них — НЗ (неприкосновенный запас): два больших черных сухаря, один десятисантиметровый кусок дочерна закопченной колбасы и два сухих, как камень, брикета-кирпича из перловой крупы. Из них, я знал, можно в котелке сварить две порции «кондёра», то есть перловой каши. Выдали солдатские книжки.
Все призывники были парнями моего возраста. Они рассказывали о себе. Ни у кого из них, как и у всех тогдашних сельских жителей, работников советских колхозов и совхозов, оказалось, не было паспортов вообще. Они им были просто не положены. Я рассказал свою легенду. Говорил в основном о Макеевке, о городском районе Совколония — все эти места я неплохо знал. Теперь-то, радовался я, не будут меня дразнить мерзопакостной частушкой, как было с тех пор, как наша семья приехала из Америки в СССР. Частушка была немудреной, но обидной:
Один американец
Засунул в ж… палец
И вытащил оттуда
Говна четыре пуда.
Вариант этого «шедевра»:
Один американец
Засунул в ж… палец.
И думает, что он
Заводит граммофон.
Идиотской песенкой меня изводили пацаны в Совколонии — по дороге в школу и обратно, пока я не стал носить с собой в школу мамин кухонный нож. Эти частушки «пели» вслед мне, моим братьям, отцу и маме не только в Украине. Мне их «исполняли» и в России, и даже в Казахстане. Я пытался понять, откуда в СССР такое презрительное, казалось мне, отношение к Америке и американцам? Возможно, из-за частушки из фильма «Волга-Волга»? В фильме 1938 года герой пел: