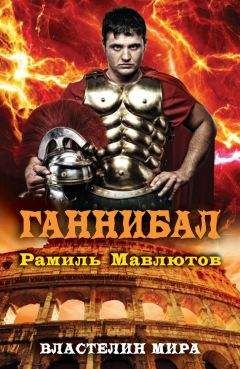В перспективных планах самоуверенного Бонапарта была даже запланирована вербовка донского атамана Матвея Платова. Надо отметить, что в Россию забрасывались лазутчики под видом странствующих комедиантов, шутов, нищих, монахов, странников, гадалок, лекарей, гувернеров и прочие. Некоторые агенты были сразу же разоблачены: Гурский, Фишер, Граве и другие.
Весной 1811 года на Дон забрасывается французская «великолепная семерка» во главе с состоявшим на службе в армии Наполеона неким польским полковником А.С. Плятером. Группа лазутчиков под видом русских военнослужащих прошла через белорусские и украинские земли, Центральную Россию и углубилась на территорию казачьего Дона.
Они проникли уже на Волгу, дойдя до Царицына. Пятеро из семерки были арестованы волгарями. После задержания их наградили пудовыми кандалами, а затем посадили в темницу. А вот полковнику Плятеру и его помощнику майору Пикорнелю удалось выскользнуть и направить свои стопы в сторону Дона и донских просторов.
Минуя заставы и пикеты, они снимали схемы дорог и переправ через реки, военных и гражданских баз снабжения, лазаретов и постоев; фиксировали движение воинских обозов, особенно по направлению на запад; хитро выпытывали есть ли у крестьян-станичников оружие и много ли кавалерии и конных заводов находится в глубине России. Собираемые сведения они передавали через связных в Варшаву.
Кроме того лазутчики, бродя по хуторам и станицам, распространяли пасквили на Русскую армию, утверждая, что казачеству место только в едином строю с Великой армией Бонапарта — освободителя от крепостного права. Обещали огромные деньги тем, кто возглавит восстание против России.
Но «сумнительных» типов сумели распознать бдительные казаки. Почуяв, что попали под подозрение, поляки в районе станицы Трехостровской выбросили в реку Дон весь уликовый материал. А дальше на лошадях пытались скрыться, но 5 августа 1812 года лазутчики были настигнуты казаками во главе с атаманом Варламовым в районе станицы Качалинской. Майору Пикорнелю удалось сбежать.
Плятера сначала допросили следователи 2-го Донского сыскного отделения.
— Назовите свою фамилию, — поинтересовался следователь.
— Плятер, — последовал ответ.
— Кто вы?
— Я русский офицер. Нахожусь здесь по делам воинской службы.
— Чем можете подтвердить это?
— Пачпортом…
Через несколько дней задержанного доставили в кабинет прокурора Войска Донского Александру Арнольди, которому он признался в даче ложных показаний следователям сыскного отделения.
— Так кто вы на самом деле? — строго спросил прокурор.
— Я Плятер, польский полковник…служу во французской армии…По заданию своего руководства 1 мая 1811 года перешел российскую границу с группой в семь человек для проведения шпионства против Русской армии.
— Где вы уже побывали?
— Примерно в более чем десяти губерниях.
— Каких?
— В Калужской, Тульской, Тамбовской, Воронежской…, — после перечисленных четырех, он запнулся.
— Давайте, давайте, перечислите остальные вами обследованные территории, — настаивал Арнольди.
— Симбирской, Оренбургской…дальше запамятовал. Там я потеряли пять моих соплеменников. После в районе Саратова меня с сотоварищем ограбили разбойники. Забрали у нас пачпорта и деньги.
— Как же у вас оказался вновь русский пачпорт?
— Нам их помог добыть местный чиновник. С ними мы и отправились в Царицын, а оттуда пришли на Дон.
— Какую задачу вам поставили?
— По этим губерниям мы обследовали ваши тыловые силы. Нас интересовало состояние складов вооружения, пороховых арсеналов, а также продовольственных запасов и фуража.
— За добываемую информацию вы платили источникам?
— Да…а!
— Какими деньгами?
— Фальшивыми.
— Где вы их достали?
— Нас снабдили в Варшаве… На допросах Плятеру ставились и другие вопросы. Тотчас же о задержании крупного французского агента было доложено Кутузову, а последний информировал императора Александра. Государь на депеше учинил краткую резолюцию:
«Поступить с ним по всей строгости существующих законов и по исполнению донести мне!»
К сожалению, нам не дано знать, как решилась судьба Плятера. Очевидно одно — в Варшаву его не отпустили и судили по всей строгости закона, применяемого к таким преступникам.
Поднять казачество на измену Плятеру и его сподвижникам по тайному ремеслу не удалось. Более того, донские казаки атамана Платова одними из первых встретили французские полчища на территории России, прикрывая отход армии Багратиона. Они умело использовали многие тактические приемы — «клин», «завеса», «карусель». Но чаще использовали такие приемы, как «лава» и «вентерь», соответственно, лобовая, всесокрушающая, мощная атака или засада, когда противник атаковывался в лоб и с флангов.
Кутузов высоко ценил казацкую боевую мощь и с нетерпением ждал прибытия дончаков, показавших себе героями в сражениях с полками Великой армии Наполеона. Потом Михаил Илларионович скажет:
«Почтение мое к Войску Донскому и благодарность к подвигам их в течение кампании 1812 года, которые были главнейшей причиной к истреблению неприятеля».
Потом донские казаки двинулись вглубь Европы. В 1813 году участвовали в битве под Лейпцигом, а 18 марта 1914 года вступили в Париж и разбили лагерь на Елисеевских полях на радость парижанок.
После войны ходил анекдот о том, что Наполеон предложил Матвею Платову сформировать для Франции воинское соединение из двадцати тысяч казаков.
— Ваше величество, — ответил Платон Бонапарту, — пришлите нам на Дон двадцать тысяч молоденьких француженок — и Вы получите через 20 лет двадцать тысяч казаков!
Итак, мечтам Наполеона победить Россию, потом вступить с ней в союз и вместе с русскими ворваться в юго-восточное Эльдорадо — Индию, не удалось осуществиться. Планы Бонапарта были разрушены силой, мужеством и стойкостью русских ратников. Ему не помогла ни Великая армия, ни его выдающиеся маршалы, ни шпионские войны, ни фальшивые банкноты!
«Дипломатия» Луи де Нарбонна
Наполеон понимал, что Россия для него — это загадочная, не понятая страна и не только из-за громадных просторов, но и прежде всего из-за состояния армии и планов ее использования императором Александром I. Поэтому, готовясь к будущим баталиям, он осознавал всю тяжесть и опасность принимаемого решения. Свою стратегическую затею он воспринимал, как «самое великое, самое трудное, на которое он когда-либо решался». В письме от 2 апреля 1811 года к вюртембергскому королю он словно исповедуется: