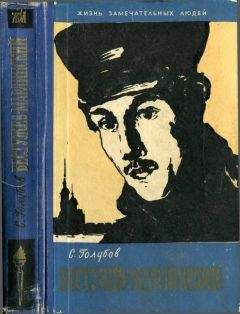— Вишь, горная крыса затесалась на корабль…
Паруса круто надуваются. Фрегат падает набок, пушки нижней батареи почти хлебают воду. Саша крестится, прощаясь с жизнью. Опять смеются лихие «старики».
Но вот шквал уходит в сторону и уносит с собой мрак бури. Фрегат выпрямляется. Все мокры, веселы, смехом и шутками провожают испытание. Одному Саше не весело. Да, здесь он не первый…
Вечером брат Николай позвал его к себе в каюту.
— Вот что, Александр. Ты не знаешь ни моря, ни корабля. Жизнь здешняя для тебя нова и непривычна. Для матросских работ у тебя нет сноровки. Я запрещаю тебе принимать в них участие. Будь пассажиром.
Саша покорно наклонил голову; действительно, у него нет сноровки.
Через неделю фрегат стал на якорь в устье Невы, чтобы сдать в корпусный лазарет заболевшего гардемарина. Саша подошел к Николаю.
— Брат, я не могу так больше. Отпусти меня на берег.
— Почему? — спросил Николай с удивлением.
— Я не могу. Кто я такой? Мне нет другого званья, как подземельный крот да горная крыса. Верно, что не было у меня сноровки. Но нашлась бы. А посмешищем целого фрегата я быть не могу. Отпусти, брат.
Глаза Саши туманились слезами, губы вздрагивали. Николаю стало его жалко.
— Хорошо, попробуй еще. Живи наравне со всеми.
Утром вышли в море. Перед Николаем Александровичем суетился Саша в матросской рубашке, с фуражкой набекрень, пристегнутой ремешком к воротнику, смоляная веревка вместо пояса — словом, самый лихой «старик», истый фор-марсовой. И никакой робости… Да, это не ворона в павлиньих перьях! Вот он бежит, не держась, по рее, чтобы крепить штык-болт, спускается вниз головой с верха мачты по одной веревке… Всходит на клотик, венчающий мачту, и из озорства становится там на колени. Дня не прошло — насмешки пропали, и Саша стал на корабле своим из своих, лучшим товарищем.
«Вот гак характер!»— думал пораженный Николай.
Два месяца радостно-тревожной, полной романтических восторгов морской жизни прошли. Поход кончился, и фрегат «Малый» стал на петербургском рейде. Саша вернулся домой с огромным багажом. Это были смоляные веревки, блоки, разноцветный флагдук, порох, сигнальные ракеты, фальшфейеры. Запас рассказов, который он привез из плавания, был почти неограничен.
— Решено, Мишель, — говорил он младшему брату, — я пишу морской роман или драму…
В Горном корпусе давно начались классные занятия. Однако «морская лихорадка», которой заболел Александр Бестужев во время летнего похода, его не оставляла.
Гуляя по штольням искусственных шахт, устроенных в корпусном саду, он думал: «Вот катакомбы, вот те гробы, в которых буду я погребен заживо. Этого вынести невозможно. Моей душе нужны свет и свобода. Только море может дать их. Прекрасное, чудное море!..»
Он выходил из шахт угнетенным, тоскующим, неспособным ни к математике, ни к минералогии. Все воскресенья он тратил на устройство модели многопушечного фрегата. С терпением и любовью изготовлял крохотные приспособления, необходимые для вооружения полуаршинного корабля, и с редкой настойчивостью преодолевал затруднения. Он кроил и шил паруса, скручивал оснастку, работал то ножом, то долотом, то стругом, отливал оловянные пушки, золотил кормовую резьбу, красил рангоут и корпус фрегата. Мишель и Петруша помогали, но для них Александр оставлял больше черную работу.
Все переменилось вокруг влюбленного в море мальчика. Сад стал палубой огромного корабля, а деревья — мачтами. Веревочные лестницы поднимались до марсов и салингов. Переговоры велись при помощи сигнальных флажков. Гроза была праздником матросской ловкости. Вершины деревьев скрипели, качаясь под ударами ветра, — Александр с верхнего сучка командовал кораблем.
Тихон бегал по саду, разыскивая смелого капитана и стараясь перекричать голос бури:
— Александр Александрыч, пожалуйте домой, маменька кличут!
— Сейчас, — отвечал капитан, — полшлага еще!
Отдав все распоряжения по кораблю, он врывался в тихую комнату Прасковьи Михайловны и, уткнув мокрую голову в ее колени, ласкаясь, говорил:
— Ах, маменька! Ведь я все равно нашалю впоследствии. Так меня и без Горного корпуса в Сибирь сошлют… Ох, корпус!
Все смеялись, и он сам тоже.
Но скоро шутки перешли в мольбы. Он страстно упрашивал мать спасти его от Горного корпуса и обещал изо всех сил стараться, чтобы выдержать экзамен на гардемарина не позже весны. Прасковья Михайловна любила сыновей, но не баловала их. Она хорошо усвоила педагогические приемы покойного мужа. Однако для хороших мыслей у нее редко находились такие же хорошие слова. Страдания сына ее мучили, но она знала, что счастье человека далеко не всегда застегнуто в военный мундир, а служить родине можно не только шпагой, но и киркой. Все это ей было понятно, а слов не находилось, и Саша донимал ее неотступными просьбами.
Наконец в дело вмешался брат Николай. Ему было ясно, что Александр с его увлекающимся характером потерян для Горного корпуса. Он доказал это матери.
Прасковья Михайловна, перекрестив перо и бумагу, дрожащей рукой подписала прошение о «возвращении кадета Горного корпуса Александра Бестужева в первобытное состояние».
Итак, прощай, Горный корпус! Здравствуй, море!
Готовиться в гардемарины Александру привелось под гром бородинских батарей, при свете московского пожара, среди величественных событий грозной войны.
Военная суматоха родила новый журнал под боевым названием «Сын отечества». Его издатель, чиновник Греч, в первом номере своего «Сына», обращаясь к Наполеону, неистово восклицал:
«Предчувствуй бессмертие, тебя достойное! Предчувствуй, как и когда потомки будут клясться твоим именем! Ты восседаешь на престоле своем среди блеска и пламени, как сатана в средоточии ада, препоясан смертью…»
Прасковья Михайловна плакала, когда Лешенька читала ей эти строки. В обществе танцевали только модную Багратионову кадриль, и во всех гостиных звенела распеваемая нежными девическими голосами патриотическая песенка:
Что же делать, — это правда,—
Помешал нам Удино
Враз прикончить Магдональда.
Но нам это — все равно:
Мы побили Удино!
Народ толковал, будто царь, в бытность в Москве, приложившись к Иверской, вышел на площадь и держал к православным такую речь:
— Помогите, детушки! Уж я с горя иссох, как лутошка!
Пьяные дворяне по уездам кричали:
— Бери, государь, все, что есть! И Дуньку отдам, и Лушку, и Марфушку… Всех забирай!
Протрезвившись, закапывали банковские билеты в землю и, разведя сверху огородные грядки, скакали с семействами на своих в Тамбов и Нижний. Николай Бестужев с Морским корпусом, Мишелем и Петрушей переселился в Свеаборг. Саша кипел военным пылом и даже собирался бежать из дому для бранных подвигов. Но не успел.