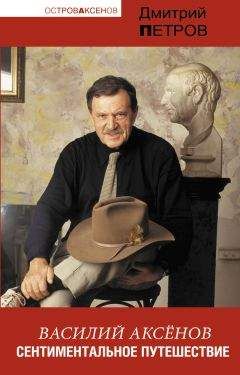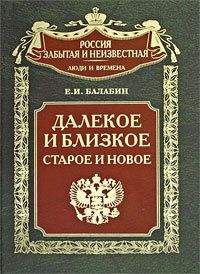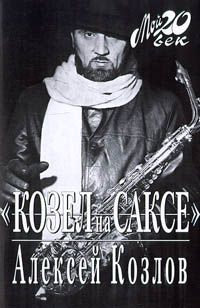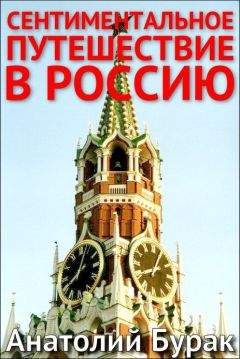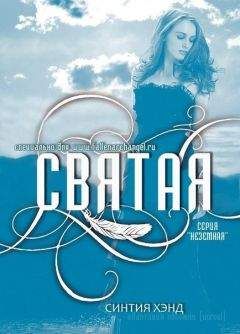Разговор был окончен.
В феврале 1937 года на партактиве Павла яростно шельмовали за политическую слепоту и потворство жене-троцкистке. С самого начала Лепа призвал участников «произвести крутой поворот в работе в сторону выкорчевывания врагов… какие бы посты они ни занимали», объявил, что оценка партийной работы будет определяться конкретными достижениями в решении этой «главной для данного периода задачи». Об этом Павел Аксенов подробно рассказывает в своих воспоминаниях[6], а также о том, как, завершая речь, «в очень жесткой форме Лепа потребовал разрыва с троцкисткой Гинзбург, осуждения ее деятельности и признания своих ошибок…».
Ужас был в том, что и обвинения, и требования предъявлялись публично. Как говорится, перед лицом своих товарищей. И выражение этого лица не оставляло сомнений: рассчитывать на сочувствие или снисхождение не приходится. Такое это было суровое лицо.
Но Аксенов не отрекся: «…Если Гинзбург троцкистка, – сказал Павел Васильевич, – и в той или иной форме вела или ведет борьбу против партии, то буду голосовать за исключение ее из партии. Но ведь доказательств ее вины не было и нет, и принимать на веру то, что о ней говорилось здесь, значит поддерживать клевету».
Актив признал его выступление неудовлетворительным. Ждали гулкого биения кулаком в чугунную грудь, громких отмежеваний. Не дождались. Были разочарованы. Аксенов нарушил железный закон: партия сказала – ты сделал. Если, конечно, хочешь, чтоб тебе доверяли. А как же тебе доверять, если ставишь свои интересы выше партийных? Такие вопросы тогда решали быстро. В ночь на 5 февраля на закрытом заседании бюро обкома Павлу велели подать в отставку. Связались с Москвой – секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Андреев (когда-то, в 21-м, поддержавший Троцкого) отрезал: решайте на месте.
Решили.
Отправить Аксенова в… отпуск.
Тем временем продолжались мытарства Евгении Гинзбург.
Она не понимала, что происходит. Ни в чем не знала своей вины. Всегда держалась главной линии. Сторонилась любых оппозиций. Считала единство высшей ценностью. Верила Сталину. А ей – выговор. По партийной линии. Строгий. С предупреждением. За терпимость к враждебным элементам. И это – только начало.
Запретили преподавать. Взяли под подозрение. Усомнились! Поставили под вопрос ее верность! Пугала не угроза карьере и покою (об аресте и мысли не было), но оскорбление подозрением. Это было как плевок в лицо. Но она верила: правда восторжествует. И каяться не стала. И точка. Не позволила «партийная совесть»…
А другим – позволила.
Те, кто «понимал момент», бия себя в грудь, шли на арену расправ и покаяний. Раздирали сорочки и френчи. Казнили себя за «близорукость», «утрату бдительности», «гнилой либерализм», который есть не что иное, как «пособничество врагу» – преступление. Контрреволюция. Знаете, почему покаяния не всегда принимаются? Их мало! Ну а с теми, кто каяться не желает… Не хочет разоружиться… Как эта Гинзбург… Разговор другой. Им что – место в партийных рядах? Точно поставлен вопрос, товарищ!.. Пришлось Евгении Соломоновне искать правды в Москве. В мытарствах прошел год. Выяснилось: чистеньких – нет. В том числе и среди жен членов ЦИК. Но пока… Пока пользуйтесь привилегиями, положенными члену семьи вашего уровня…
* * *
В партийной здравнице Астафьево – усадьбе князей Вяземских – жили родственники вождей. Они оценивали людей по маркам машин. «Линкольнщиков» и «бьюишников» – тех, кого возили в «Линкольнах» и «Бьюиках» – уважали. «Фордошников» презирали.
Но кормили отменно. В номерах свежие фрукты, цветы. Но в «Соснах», «Барвихе» лучше.
Здесь, среди мрамора, зеркал и лампионов, Евгения с сыном Лешей встречали 1937 год.
Советская аристократия ценила роскошь. Недавние угловые жильцы рабочих казарм, мещанских домишек и сельских изб вошли во вкус коньяков, шикарных автомобилей, просторных квартир, мраморных ванн, бронзовых ваз и скульптур. Конечно, их хоромы не шли в сравнение с дворцами имперской или западной элиты, но на сером фоне колхозных хибар, городских коммуналок и бараков эти цитадели счастья сияли недоступным великолепием.
«Представьте. Зима. Сибирь. Мороз… Тайга, и вдруг… забор, за ним сверкающий огнями дворец! – вспоминала об этой жизни Агнесса Ивановна Миронова-Король (немало потом посидевшая). – Нас встречает швейцар, кланяется почтительно… и мы с мороза попадаем сразу в южную теплынь… Огромный, залитый светом вестибюль. Прямо – лестница, покрытая мягким ковром, а справа и слева в горшках на каждой ступени – живые распускающиеся лилии…» Это – резиденция секретаря Западно-Сибирского крайкома в середине 30-х годов.
А вот – сценки из курортной жизни партийного начальства…
«Мы сели в открытые машины, а там – корзины всяких яств и вин. Поехали на ярмарку в Адлер, потом купались, потом – в горы, гуляли, чудесно провели день. Вернулись… А праздничные столы уже накрыты, и около каждого прибора цветы, и вилки и ножи лежат на букетиках цветов. На мне было белое платье, впереди бант с синими горошинами, белые туфли… Были в тот вечер Постышев, Чубарь, Балицкий, Петровский, Уборевич, а потом из Зензиновки, где отдыхал Сталин, приехал Микоян»[7].
В новогодний вечер столы в Астафьеве ломились. За ними восседали видные персоны. Дамы – в бальном. Мужчины – кто в партийном, кто в военном. Девяносто процентов из них были обречены уже скоро сменить свои ромбы и шпалы на робы и бушлаты, балык – на баланду, а покои – на бараки. А юные знатоки иностранных машин – на палаты детдомов. Но пока – гуляют: пир горой! С новым, 1937 годом! Слава СССР! Слава великому Сталину! Ура!
Евгения – в блистательном платье. Шампанское, икра и искры в хрустале. Без пяти двенадцать. И тут ее зовут к телефону. Думала – муж. Оказалось – знакомый. Звонит с комплиментом… Вернулась на двенадцатом ударе часов. Алеша с кем-то чокался ситром.
Этот Новый год она с ним. Но ни один следующий. Никогда.
Вскоре Евгению исключили из партии. Стало ясно: ничто уже не выяснится: наказание вовсе не требует наличия преступления. Что ни день – новости об арестах. Они видели: в ВКП(б) идет безжалостная и неумолимая чистка. Среди ее жертв – хорошо им знакомые люди, в измену которых не верили. Но и не смели усомниться.
С 7 февраля 1937 года – со дня изгнания мамы из партии – родители ждали ареста.
До того их быт охраняли дзержинцы Николая Ежова. И они предпочитали не думать о том, сколько порушено судеб и карьер, сколько коллег ушло из личных кабинетов в кабинеты следователей. И те же чекисты, что прежде хранили их покой, теперь стерегут их в тюрьме, на этапах, в лагерях. Затем и несут они бессонную вахту в здании республиканского управления НКВД на улице Дзержинского (и сейчас – Дзержинского), что в Казани звали «Черным озером» (в текстах Аксенова – «Бурым оврагом»). Зимой на озере заливали каток. Там кружили румяные юноши и девушки. И, кружа, глядели на окна, всегда сиявшие электричеством.