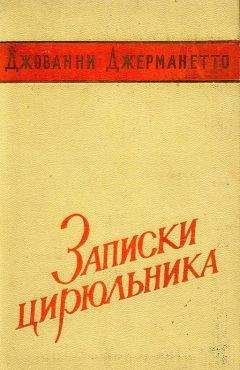Они интересовались скачками, банко-лото, всякими спортивными состязаниями, причем увлекались не самим спортом, а связанной с ним игрой. Я знал парикмахера (я работал с ним в маленькой хибарке на окраине, под громкой вывеской «Цирюльник-филантроп», где брили и стригли действительно за гроши), который уверял, что «постиг все таинства» банко-лото. Посетители рассказывали ему свои сны, а он, объясняя их, указывал «хорошие» номера и за это получал щедро на чай.
— Синьору приснился арест за убийство? — И мой коллега глубокомысленно задумывался на мгновение. — Ясное дело: карабинеры — это одиннадцать, мертвый — сорок семь, убийство — девяносто… Ставьте одиннадцать, сорок семь, девяносто — у вас все данные выиграть!
Но сам он, бедняга, никогда не выигрывал!
Другой был знатоком лошадей и знал наизусть родословную каждой из них. Он давал советы любителям бегов и сам играл на тотализаторе. И неизменно проигрывал.
Впрочем, духом он не падал и на каждых скачках начинал сызнова:
— Лошадь такого-то ничего не стоит. Вот та, другая? Да, чистокровная кобыла: она ведь дочь такого-то рысака, получила большой приз на Лоншанских скачках в таком-то году, а мать ее… — порода! — получила премию Амедея Савойского! Если ставить на кого-нибудь, то, конечно, на нее!..
А на другой день после скачек брал в долг папиросы у товарищей и занимал на обед…
А велосипедные состязания! Были среди парикмахеров такие, которые после окончания работы ходили тренироваться, надеясь стать чемпионами.
Между собой они не дружили, завидовали друг Другу, ссорились… Южане, которых было много в туринских парикмахерских, хвастались, что они лучшие художники (парикмахеры любят так себя называть); северяне, конечно, считали себя гениями, и споры иногда доходили до потасовки.
Я высмеивал их и уверял, что наилучший художник, — конечно, хозяин, который всех нас великолепно «стрижет».
— Это верно. — соглашались некоторые.
Но, когда я заговаривал об их вступлении в профессиональный союз, они смолкали, мрачно поглядывали на меня.
— Хочешь, чтобы нас рассчитали?
Труд оплачивался плохо. Отношение было еще хуже. Клиенты смотрели на нас, как на существа низшего порядка. Обращались на «ты»: «Причеши-ка меня!», «Подстриги бороду!», «Завей усы!». А парикмахер должен был отвечать обязательно по титулу: «Да, синьор командор!», «Слушаюсь, синьор кавалер!» и т. д.
В плохоньких цирюльнях рабочих кварталов дышалось легко, но заработок был грошовый.
Меня недолюбливали за язык.
Как-то один пизанец спорил с уроженцем Сицилии. Этот последний хвастался, что ему случалось брить маркиза ди Рудини, председателя совета министров.
Пизанец оглядел его с видом превосходства:
— А я работал в Пизе в парикмахерской, которая обслуживала королевский дворец! — И он победоносно оглядел товарищей.
— Ты, что же, королевских собак стриг, что ли? — не удержался я.
Ну и была же история! Помирился он со мною только после того, как я уступил ему одного из своих наиболее щедрых клиентов.
И все же я с двумя-тремя товарищами вел здесь организационную работу, и мы сумели, правда с невероятными усилиями, добиться успеха.
Но «организованным» членам профсоюза приходилось плохо, хозяева к ним придирались, при первом же случае увольняли, а найти новое место было трудно: нас знали наперечет.
Как-то мне пришлось работать в центре, в роскошной парикмахерской на проспекте Виктора Эммануила, вблизи казарм; в парикмахерскую заходили все офицеры, а солдаты — разве только случайно. Надо было только посмотреть, как раболепствовали и хозяин и служащие, когда к нам заходил кто-нибудь из полковых «шишек»!
А когда приходил сам полковник, то это было словно второе пришествие! Хозяин собственноручно распахивал перед ним дверь, склоняясь с подобострастным «Мое почтение, синьор полковник», и затем вытягивался, как в строю. Парикмахеры кидались принять полковничью саблю, перчатки, фуражку, плащ…
А брошенные клиенты покорно ждали с намыленными щеками и подбородками.
В одно из воскресений, когда парикмахерская была битком набита военными и чиновниками — затесался даже и один епископ, — появился полковник. Он начальственно скомандовал:
— Поскорее, я тороплюсь!
И так как в этот момент я заканчивал бритье своего клиента, то высокая честь служить полковнику выпала на мою долю.
— Кто следующий?
Полковник приблизился к креслу, за которым я работал.
— Подстриги бороду, да поторапливайся!
— Садись! — ответил я.
Мгновенно в парикмахерской воцарилась мертвая тишина. Служащие оцепенели. В воздухе замерли руки с ножницами и бритвами, глаза хозяина выкатились из орбит, сам полковник посинел, но сдержался и сел в кресло.
Я, стараясь сохранить полное спокойствие, принялся за работу. Мои коллеги боялись глянуть в мою сторону, зато хозяин кидал на меня испепеляющие взгляды. У клиентов был растерянный вид, только несколько нижних чинов, брившихся в уголке, видимо, были довольны.
Полковник, пока я его брил, обращался ко мне на «вы». На чай он не посмел дать и удалился все еще посиневший. Хозяин долго расшаркивался перед ним и извинялся.
Как только он вышел, хозяин подошел ко мне:
— Вы сегодня же вечером получите расчет! Я заплачу вам за восемь дней вперед.
— Так рассчитываются с жуликами, — возразил я.
— От кого вы научились такому обращению?.. — зарычал вконец разгневанный хозяин.
— От полковника, — ответил я.
Вечером, забрав свои инструменты и причитавшиеся мне гроши, я ушел из парикмахерской. Начался тяжелый период поисков работы. Получить место было трудно: хозяева знали меня слишком хорошо. Переменить ремесло не позволяла больная нога. Потянулись черные дни нищеты. Заработок выпадал случайный, ничтожный. Сколько раз спасал меня от голодной смерти мой приятель, мывший посуду в одном из ресторанов, откуда он приносил мне остатки еды, собранные с блюд!
Но наш союз парикмахеров креп и разрастался. В один прекрасный день парикмахеры объявили забастовку. Кролики превратились в львов! Грозились избить хозяев, разнести в щепки парикмахерские… Забастовка тянулась недолго: хозяева пошли на уступки. Была увеличена заработная плата, дан отдых по понедельникам: но чаевые остались. Сами бастующие выдвигали отмену этого унизительного обычая скорее как агитационный прием.
В Турине я не мог больше найти себе работу, поэтому я перебрался в Савону, а оттуда — в Александрию. Я полюбил смену мест, но вскоре пришлось мне поехать в Мондови: захворал мой отец. Тяжелая и нездоровая работа, большей частью в подземных помещениях, длинный рабочий день, сверхурочные сломили его.