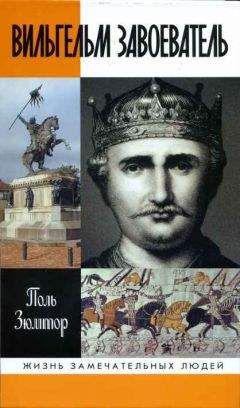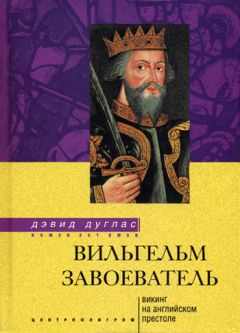То и дело на холме, возвышавшемся над равниной, в укромной долине, в излучине реки или при слиянии двух рек взору путника открывались верхушки крыш, торчавшие над крепостными стенами. Более низкие строения, прилепившиеся к массивным зданиям, были скрыты от его глаз. Случалось, что подобного рода нагромождение строений в те времена возникало вокруг аббатства благодаря притоку служилых людей, воинов, беженцев и ремесленников, как в Жюмьеже, реже это бывало вокруг крепости — как в Алансоне. Как правило, это происходило на месте старинных галльских поселений или древнеримских городов, к тому времени пришедших в запустение и ужавшихся до размеров территории, умещавшейся в пределах крепостной стены. Однако и эта территория, на которой глинобитные и деревянные строения заменили прежние каменные здания, подчас оказывалась слишком просторной — часть ее занимали пустыри и поля. В центре этого города или бурга, в самой высокой ее точке, или непосредственно у городской стены возвышалась оборонительная башня, иногда представлявшая собой остатки древней цитадели. Случалось, что за пределами крепостной стены, на территории сельской округи укрепленная церковь или монастырские здания образовывали не столько внешний квартал, сколько автономные элементы того разрозненного и расплывчатого комплекса, который мы называем «городом», но для обозначения которого европейские языки того времени еще не имели специального слова. Четверо ворот, устроенных в городской стене соответственно странам света, вели в Руан. Перед восточными воротами возвышалась герцогская цитадель. К концу правления Вильгельма Завоевателя вокруг города возникли три пригорода: Маль-палю, Эмандрвиль и поселение вокруг аббатства Сен-Кан. Однако размеры таких «городов» по нашим меркам были смехотворны. В середине XI века Лe-Ман, считавшийся значительным городом, построенный на вершине холма и окруженный крепостной стеной из римского кирпича, над которой возвышалось двадцать башен, имел размеры 450 на 200 метров!
В середине X века в качестве предвестников новых времен в некоторых районах, прежде всего в долинах Рейна и Мааса, стали возникать поселения вокруг какого-нибудь скромного рынка, который периодически посещали перекупщики соли, продуктов земледелия, мелких предметов ремесленного производства. Эти поселения представляли собой «пригороды», преимущественно возводившиеся вблизи церкви, земля вокруг которой юридически считалась местом убежища, и окруженные рвом и палисадом из кольев. В пригородах фламандских городов в X веке быстрыми темпами возрождалась древняя традиция текстильного ремесла, так что около 1000 года туда начали ввозить необработанную шерсть из Англии. В XI веке, также в пригородах, в Лотарингии стала развиваться металлообработка. Однако эти явления всё еще оставались исключениями. Город, несмотря на свои маленькие размеры, был лишен органического единства, его составляли сосуществующие группы населения, еще не объединенные (за редким исключением) исполнением какой-либо специфической функции. От той городской жизни, которая процветала в эпоху Античности, ничего не осталось. Даже в материальном плане от нее остались разве что развалины общественных зданий, не находивших себе применения или зачастую использовавшихся в качестве каменоломен. Даже если город в топографическом отношении демонстрирует весьма примечательную преемственность от Античности до наших дней (очень редко после какой-либо катастрофы его восстанавливали не на его развалинах, а в другом месте), как таковой он оставался чрезвычайно уязвимым. Не было спасения от периодически постигавшего его бедствия — пожара, который, наряду с такими катаклизмами, как чума, засуха и война, имевшими природное происхождение или вызванными людской злонамеренностью, со всей наглядностью выявлял господствовавший в мире фатальный порядок вещей. В первые тридцать лет XI века двенадцать городов в пределах современной Франции были почти полностью уничтожены огнем: в 1000 году Анжер (вновь горевший в 1032 году), в 1002-м — Страсбург, в 1018-м — Бове и Пуатье, в 1019-м — Руан и Шартр, в 1020-м — Сомюр, в 1024-м или не-сколько позже — Коммерси, в 1025-м — Осер, в 1026-м — Сент, в 1027 году — Камбре и Тур...
В социальном плане положение горожан не было единым для всех и не представляло собой чего-то особенного: клирики и военные, свободные и сервы — каждая из этих категорий обладала собственным юридическим статусом, который по-своему подчинял их местному сеньору. Лишь постепенно в течение XI века во Франции вошел в обиход термин буржуа, служивший для обозначения свободного горожанина. Впервые это слово было употреблено в 1007 году в городе Лош. И тем не менее образ жизни буржуа мало отличался от жизни крестьян: он возделывал свое поле, пас свой скот, его поросята и домашняя птица копошились в уличной грязи. Лишь много позднее, когда сменилось несколько поколений, в результате развития коммерческой деятельности сельскохозяйственные занятия горожан перестали быть экономически оправданными.
МенталитетГлубинные отношения связывали человека с его землей. Экономическая необходимость, трудовые приемы и суровая борьба за выживание — всё это вместе укореняло его на земле, на которой он жил, соблюдая местные обычаи, и от которой получал, трудясь в поте лица своего, порой из последних сил, хлеб свой насущный. В этом землепашец и хозяин домена мало отличались друг от друга: работа первого кормила обоих, а могущество второго обеспечивало им общую безопасность. Социальная группа, таким образом, обнаруживала тенденцию к замыканию в себе, вырабатывая свой особый менталитет — феномен, который еще в XX веке можно наблюдать, пусть в остаточной и видоизмененной форме, в некоторых отдаленных европейских деревнях.
Мир XI столетия — крестьянский мир. Конечно, давно была пройдена стадия первобытного клана, воодушевлявшегося своего рода биологическим патриотизмом, однако патриотизм современного типа, связанный с реальным государством, в XI веке существовал лишь в зачаточном состоянии в сознании отдельных людей. Патриотизм тогда выступал в виде привязанности к родному краю, территории, на которой человек непосредственно жил и трудился. Без особой симпатии относились ко всякого рода прохожим чужакам; инстинктивное недоверие боролось с любопытством, возбуждаемым этими разносчиками новостей. Превратности войны, торговли или паломничества сводили вместе людей, говоривших на разных языках, и тогда хватало малейшего повода, чтобы началась потасовка. Языком же каждого (за исключением ничтожного меньшинства клириков) было его родное местное наречие. Перегруппировка и до известной степени унификация деревенских говоров происходили в недрах регионов, в которых экономически и политически доминировал один наиболее активный центр или через которые проходили оживленные пути сообщения. Так формировался региональный язык, диалект. Эти «романские» диалекты, которые все вместе отличались от латыни своей большей напевностью, обилием гласных, пластичностью и красочностью своего словарного состава, обнаруживали и непохожесть друг на друга, что объяснялось комплексными различиями — географическими, историческими, психологическими. С X века по Луаре пролегла граница, отделявшая друг от друга две более или менее различные лингвистические группы, каждая из которых представляла совокупность диалектов и наречий, обладавших, несмотря на многочисленные различия, фундаментальным единством: к северу те, что составляли «французский» язык, а к югу — «окситанский», именуемый также «провансальским».