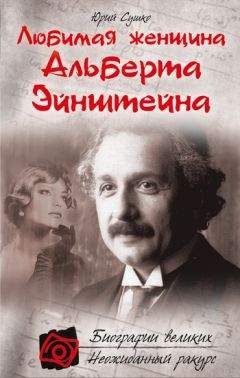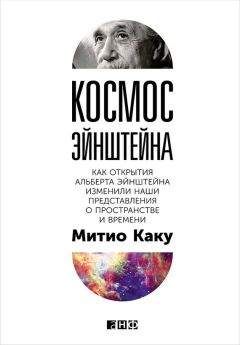Мастерская стала и студией, и домашним очагом, и клубом, и выставочным залом. При этом публика собиралась порой самая разношерстная. Возникали призрачные фигуры бездомных художников. Здесь дневал и ночевал Сергей Есенин, позже танцевала Айседора Дункан, хватив спирта, пел Федор Шаляпин, читали стихи Анатолий Мариенгоф и Сергей Клычков, рассказывал о своих театральных замыслах Всеволод Мейерхольд, приносил новые полотна Петр Кончаловский... На встрече богем двух столиц могли вдруг явиться приглашенные Коненковым слепые лирники и тянуть свои бесконечные монотонные песни... Под настроение хозяин мастерской тоже иногда брал в руки лиру и заунывно распевал любимую оду «Об Алексии, божьем человеке, о премудрой Софии и ее трех дочерях – Вере, Надежде, Любови». Компания благоговейно млела, полагая, что припадает к истокам, к исконно народному, русскому, православному, домотканому творчеству...
Как вспоминал Мариенгоф, для Сергея Коненкова род человеческий разделялся на людей с часами и людей без оных. Определяя кого-либо на глазок, он обычно бурчал: «Этот с часами...» И все уже понимали, что если речь шла о художнике, то рассуждать о его талантах было бы незадачливо, а слушать стихи крикливого, дурно пахнущего футуриста и вовсе необязательно.
Но какие же страсти тут кипели, творческие, мягко говоря, дискуссии, едва не доходящие до драк! Одним из предметов столкновений была, например, космогония, к которой Коненков в поисках смысла мироздания испытывал неукротимый интерес. Есенин же, будучи человеком земным, к тому времени рассорившимся с Богом, подводил итоги диспутов своей черной строкой:
«Не молиться тебе, а лаяться научил ты меня,
Господь...»
Но случались и иные поводы для стычек и конфликтов. После того как Есенин прочел друзьям главы из своего «Пугачева», Всеволод Мейерхольд тотчас с жаром заговорил о необходимости постановки поэмы в его театре.
– А вот художником пригласим Сергея Тимофеевича, – обратился режиссер к Коненкову, – он нам здоровеннейших этаких деревянных болванов вытешет.
У Коненкова на лоб глаза полезли:
– Кого, кого?
– Я говорю, Сергей Тимофеевич, вы нам болванов деревянных...
– Болванов?!
И Коненков так брякнул о стол стаканом, что во все стороны брызнуло стекло мельчайшими осколками.
– Ну... статуи... из дерева... Сергей Тимофеевич... – пролепетал Мейерхольд.
– Для балагана вашего?!
Коненков встал и, обращаясь к Есенину и Мариенгофу, извинился:
– Ну прости, Серега... прости, Анатолий... Я пойду... пойду от этих «болванов» подальше...
Смертельно обиженный, он вышел из-за стола и, громко хлопнув дверью, удалился в темный вечер.
Обескураженному Мейерхольду Есенин сразу принялся выговаривать, нравоучать:
– Все оттого, Всеволод, что ты его не почуял... «Болваны»!.. Разве возможно?!. Ты вот бабу так нежно по брюху не гладишь, как он своих деревянных «мужичков болотных» и «стареньких старичков»... в мастерской у себя никогда не разденет при чужом глазе... Заперемшись, холстяные чехлы снимает, как с невесты батистовую рубашечку в первую ночь... А ты – «болваны»... Разве возможно?!
Присутствовавший тут же художник Жора Якулов утешал Мейерхольда на свой манер:
– Он... гхе-гхе... Азия, Всеволод, Азия... Вот греческую королеву лепил... в смокинге из Афин приехал... из бородищи своей эспаньолку выкроил... Ну, думаю, европейский художник... а он... гхе-хге... пришел раз ко мне, ну... там шампанское было, фрукты, красивые женщины... гхе-гхе... он говорит: двинем ко мне, на Пресню, здесь, гхе-гхе, скучно... Чем, думаю, после архипелага греческого подивит... а он сюда, в кухню, к себе привез... водки две бутылки... гхе-гхе... огурцов соленых, лук головками... а сам на печь и... гхе-гхе... за гармошку... штиблеты снял, а потом... гхе-гхе... пойте, говорит: «Как мы просо сеяли, сеяли»... Можно сказать, красивые женщины... гхе-гхе... жилет белый... художник европейский... гхе-гхе... Азия, Всеволод, Азия...
А Есенин тут же выдал экспромт:
Пей, закусывай изволь!
Вот перцовка под леща!
Мейерхольд, ах, Мейерхольд,
Выручай товарища!
– Жаль, Сергей Тимофеевич тебя не услышал, – вздохнул, едва не всхлипнув, осрамившийся Мейерхольд.
– Ничего, – утешил его Есенин. – Я Сергею другие частушки сочиню.
После ухода Тани вместе с Сергеем Тимофеевичем главным «правителем» во флигеле стал коненковский дворник, нянька и верный друг «дядя Григорий» – Григорий Александрович Карасев, кроме всего прочего, любивший поучать жизни заглянувших на Пресню друзей-приятелей хозяина.
«У этого человека был меткий и зоркий взгляд, – говорил Коненков. – Говорил он мало, но веско. Я всегда прислушивался к его замечаниям. Каждое слово было глубоко осмысленным, а если он молчал, это было молчание понимающего и думающего человека».
Именно таким он и вырубил его из двухметрового кряжа – своего народного мыслителя, человека непреклонного характера, нелицеприятного судию жизни.
А друзьям Коненков советовал:
– Ты его слушай да в коробок свой прячь – мудро он говорит: кто ты есть? А есть ты человек. А человек есть – чело века, – и указывал при этом на сократовский лоб Григория Александровича.
А потом, взяв гармошку, затягивал любимое есенинское «Яблочко», приглашая всех продолжить застолье:
Эх, яблочко
Цвету звонкого,
Пьем мы водочку
Да у Коненкова!
...На первых порах новая спутница Сергея Коненкова прелестница Маргарита была подлинной «королевой бала» в его товариществе. Ей дарили цветы, посвящали стихи, пели романсы. В честь ее поднимались бокалы и стаканы, преподносились нежные розы и произносились изысканные тосты.
Но со временем интерес к ней стал естественным образом угасать, и в шумной хмельной компании Маргарита, уже привыкшая быть в центре внимания и благосклонно принимать нескончаемые комплименты, ушла в тень Коненкова, затерялась. Но она не могла чувствовать себя одной из многих. Ей нужно было быть единственной. А здесь каждый считал себя неповторимым и гениальным. Марго завидовала, когда слышала обволакивающие ласковые слова, адресованные, увы, не ей. Вон Есенин, взяв за руку Надю Вольпин, все шепчет ей какую-то нежную чепуху: «Мы так редко вместе. В этом только твоя вина. Да и боюсь я тебя, Надя! Знаю: я могу раскачаться к тебе большой страстью!»
Маргарита нуждалась в бесконечном поклонении, восхищенных взглядах, тайных ухаживаниях, особых знаках внимания. Ей явно недоставало влюбленности Коненкова. Она хотела чувствовать себя победительницей и других мужских сердец. Как же вовремя попался под руку Боренька Шаляпин! Да-да, тот самый юный робкий мальчик теперь пришел учиться ремеслу у самого Сергея Тимофеевича Коненкова.