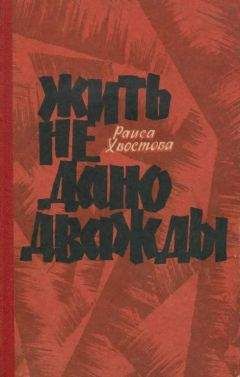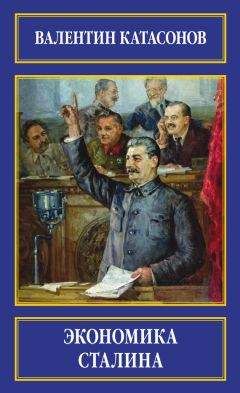― Меня тоже это мучает, ― со вздохом признался он. ― Но служебное положение обязывает действовать именно так.
Я замолчала. В самом деле, я, работник суда, почему-то не протестую, а безропотно выдаю копии постановлений, с которыми не согласна. Где моя принципиальность? Почему сама ничего не предпринимаю?
Подняла голову. Черные большие глаза пристально глядели на меня. «Финансист» был серьезен и печален.
В следующий приезд он задержался около моего стола и, уже получив нужные бумаги, неожиданно пригласил погулять. И я, неожиданно для себя, согласилась.
Моя служебная квартира находилась недалеко от суда. Зашли ко мне, выпили чаю и отправились на берег Москвы-реки. Спускались сумерки, было необыкновенно тихо.... А я так долго перед этим проводила вечера одна...
И вдруг зазвучали стихи! И какие ― запрещенные! Прежде я знала лишь те есенинские стихи, что читали в театре Сережникова, а потом, когда на них наложили «табу», постаралась забыть. С удивлением и радостью смотрела я на «финансиста» ― читал он с чувством, читал много, великолепно... Я была смята, оглушена... В конце прогулки робко попросила привезти мне книжки Есенина.
Прогулки стали повторяться, я привыкла к ним.
Казалось, не было такой поэмы или стихотворения Есенина, которых бы он не знал. Зато я знала больше классиков: Пушкина, Некрасова и особенно Лермонтова.
Лучшие поэты мира нарушали тишину летних вечеров. Мы читали без устали, перебивая друг друга. И мне было весело и хорошо с этим странным «финансистом». Уезжал он последним поездом, но никогда не намекнул на то, чтобы хотел бы остаться.
Тихий, вкрадчивый голос лишал воли; когда его не было рядом, я, не зная, чем себя занять, скучала ... О чувствах не говорили, а гордость не позволяла начать объяснение первой. Все было неопределенно и зыбко.
Осенью меня перевели на организацию участка №10 по Московскому уезду, в Пушкино, где я поселилась в комнате, находившейся прямо над залом судебных заседаний. Приезды нового знакомого сделались редкими, а вечера ― совсем тоскливыми.
Неожиданно получила письмо ― обрадовалась, думала, от Василия, оказалось ― от бывшего жениха Иры Анискиной Георгия.
«Здравствуйте, Раиса! Вы назвали меня «подлецом», не могу допустить, чтобы так думал обо мне хотя бы и малознакомый человек. И как можно так называть человека, о котором вы, по существу, ничего не знаете?» Письмо было длинное и сердитое. Ирина, наверное, решила, что данная ею характеристика Георгия будет значимей, если прозвучит от имени «лучшей и умной» подруги. Я сочла необходимым объяснить недоразумение, а Георгий ответил новым длинным письмом, «веруя в дружбу с девушкой». Он прошел уличную школу беспризорника, потом колонию, но, несмотря на это, стал идейно убежденным комсомольцем. Написал, что «давно раскусил мещанскую натуру Анискиной» и «что лучше жениться на проститутке с бульвара, чем на ней». Завязалась переписка, и довольно регулярная.
И вдруг незадолго до Октябрьских объявился Василий Никифоров и предложил съездить к моим родителям.
Всю дорогу приятные подозрения щекотали сердце. В Бирюлево приехали без предупреждения ― мама и папа были дома. После третьей чашки чая Василий церемонно сказал:
― Уважаемые Харитон Филиппович и Феодора Кронидовна! Мы решили с Раей пожениться, и вот, прошу ее руки и вашего благословения!
Я онемела: конечно, к чему устроены и эта поездка, и эти смотрины, я догадывалась. Но надеялась, что сначала он признается в любви мне ― ведь я взрослая, самостоятельная советская девушка! Мое чувство достоинства было сильно уязвлено. Не поговорить предварительно со мной? Да как он смел!
Родителям пришлась по душе старомодность, с какой было сделано предложение. И пожалев их, скандала устраивать не стала. А когда он сообщил, что свадьба намечена под Новый год, лишь кивнула в знак согласия.
Перед сном, гуляя с Василием вдоль полотна железной дороги, осторожно высказала свои сомнения:
― Ты меня любишь?
Он засмеялся и стал читать любимое: «Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым...» Я забыла свою обиду и с неведомым доселе чувством собственности прижималась к человеку, который совсем скоро должен был стать «моим», гордая тем, что теперь я ― невеста.
Ночевали у родителей, а утром отправились: я в Пушкино, он в свой отдел на Садово-Сухаревской. При расставании не утерпела, спросила, когда теперь его ждать, но он от ответа уклонился. Я не настаивала. В конце концов, если прежде мы встречались не столь часто, теперь-то, думала я, он будет бывать ежедневно.
Прошла неделя, другая ― его нет. С ним что-то случилось! Поехала в Москву, будто бы по делам, зашла к нему на работу (Мосфинотдел находился рядом с нашим уездным судом) и узнала, что он на месте.
Мельком, оторвавшись от бумаг, Василий взглянул на меня, холодно поздоровался и продолжил занятия ― вызывал секретаря, делал какие-то распоряжения, отвечал на телефонные звонки, сам кому-то звонил и присутствия моего как будто не замечал. Страдая от унижения, я сидела на неудобном стуле и терпеливо ждала перерыва в делах. Наконец, не выдержав, вскочила с места и, перегнувшись через заваленный бумагами стол, громким шепотом спросила:
― Что это значит?
― Как видишь, я работаю!
― Почему ты не приезжаешь?
― Некогда! Разве я обязан бывать у тебя каждый день?
― Почему обязан? ― удивилась я. ― У тебя нет желания повидать меня? Просто так?
― Ах, боже мой, ― вздохнул он. ― Мы и так скоро будем вместе всю жизнь. Успеем навидаться!
Как приговоренная к казни, тихо, не оглядываясь, я ушла из его кабинета.
В тот же вечер он примчался в Пушкино. С удивлением и испугом я смотрела на мечущегося по комнате человека, не понимала его, боялась, и вместе с тем, огромная жалость и нежность переполняли меня... Он носил меня на руках, обнимал так крепко, как никогда до этого, и временами плакал как ребенок.
Эти сумасшедшие свидания стали довольно частыми. Теперь он читал: «Цветы мне говорят, прощай» ― и как-то особенно смаковал последние строки: «И эту гробовую дрожь, как ласку новую, приемлю!»
Вслед за ним я повторяла их, каждый раз находя новые краски и потаенные смыслы; доведенная до изнеможения, терзаясь и горя, говорила: «Мне так хорошо и так больно, что хочется умереть!»
― Да, да, именно так и надо чувствовать, ― отвечал он. ― Именно умереть! Вот тогда это любовь!
― А ты? Ты хочешь умереть? ― спрашивала я.
И он снова надолго пропал.
А потом пришла открытка: «С прежней жизнью покончено. Прости, если можешь! Уезжаю в леса. Тебя люблю, но от этого и бегу. Василий».