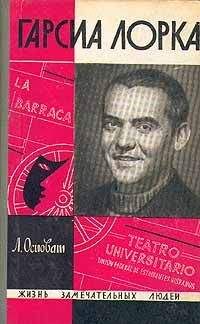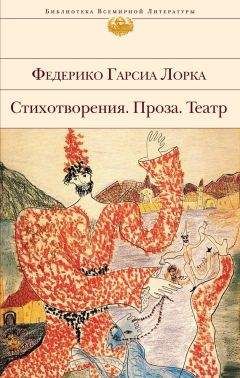Кубинские впечатления не мешали работе, которая шла в нем последнее время. Театральные замыслы занимали все больше места в этой работе; драматургия оказывалась лучшим способом высказать то, что хотелось. Но театр, о котором мечтал Федерико теперь, был особым театром – в нем само действие должно было вырастать из поэзии, ни на секунду не порывая с ней связи.
Возвращаясь в отель «Ла Унион», Федерико запирался на ключ и торопливо переносил на бумагу все, что накопилось за время поездки или за день, проведенный в Гаване. От причудливых, зашифрованных видений лирической драмы «Когда пройдет пять лет» он переходил к фарсу о Башмачнике и Башмачнице. Условный сюжет наливался соками андалусской земли. Расталкивая локтями прочих персонажей, вырывалась на первый план героиня, женственная дикарка, воюющая с целым светом – с действительностью, которая ее окружает, и со своими фантазиями, когда они становятся действительностью.
Да, она отравляла жизнь своему покладистому, безответному мужу – ведь ему было за пятьдесят а ей всего восемнадцать. Какие женихи к ней сватались! И все-таки ее выдали застарика, и теперь у нее, наверно, не будет детей, а она так их любит... Но стоило Башмачнику, доведенному до отчаяния, покинуть дом, как становилось ясно, что нет жены вернее. Что бы там ни сплетничали соседки, Башмачница не склонялась ни на чьи ухаживания. И дон Дроздильо, и сам сеньор Алькальд, и даже молодой Парень, подпоясанный кушаком, ничего от нее не добились. Больше того: брошенная Башмачница все сильней тосковала по доброму мужу, наделяла его в своем воображении всяческими достоинствами и в конце концов полюбила его так, как никогда не любила.
А воротись попробуй Башмачник, предстань он жене в своем подлинном, будничном виде – и все начнется сначала!
Работая над «Чудесной башмачницей», Федерико старался идти от «Стихов о канте хондо», «Песен», «Цыганского романсеро». Стихия народной поэзии должна была стать здесь не фоном, на котором действуют герои пьесы, но воздухом, которым они дышат, средой, определяющей их поступки. Раздумывая над этим, он незаметно для себя переходил к иному, заветному замыслу – о женщине, не знающей материнства.
В сущности, это была его давняя тема, но теперь за женщиной, привидевшейся ему, вставал целый мир – родной, извечный, истинный. Не аллегория, не символ – простая крестьянка, жаждущая ребенка и неповинная в своем бесплодии, Иерма была дочерью этого мира.
Да и тот, кто отказывал ей в материнстве, ее муж, был самым обыкновенным крестьянином-собственником, одним из тысяч, встречавшихся Федерико повсюду, от гранадской равнины до берегов озера Эден Милле. Но – собственник – он, сам того не подозревая, тоже представлял целый миропорядок, пришедший на смену древним, патриархальным законам.
Давно ли, кажется, этот миропорядок провозглашен был спасительным и справедливым для всего человечества? Давно ли его глашатаи обручились с народной стихией, суля ей свободу, счастье, бессмертие? И вот уж он одряхлел, и те, кто ратовал за него, опустошенные, духовно нищие, не способны больше смотреть вперед, не желают – потому что боятся – будущего. Для них существует лишь то, что они пока еще держат в своих руках, то, что видят собственными глазами. «Сегодня, сегодня, сегодня», – твердят эти люди, поедая свой хлеб у теплого очага. Бесплодные, они отказывают в бессмертии всем, кто – вольно или невольно – связал с ними свою судьбу.
История Иермы была обыденной, повседневной драмой многих испанских женщин, созданных для материнства и обреченных на бездетность. И в то же время угадывалось в ней нечто большее – трагедия обманутой народной души.
Но какая же требовалась поэзия, чтобы извлечь угаданное и воплотить его, чтобы поднять бытовую драму, не оторвав ее от земли, на трагедийную, отовсюду видимую высоту! У Федерико дух захватывало, когда он об этом думал; все написанное им до сих пор казалось незначительным в сравнении с тем, что предстояло. Отступать, однако, было уже поздно – впрочем, он и не хотел отступать.
Журналист Николас Гильен, коренастый двадцатисемилетний мулат, поглядывая на Федерико исподлобья, читал ему свои стихи – иронические сонеты, изящные, под Рубена Дарио, баллады, свободные строки, написанные в новейшей авангардистской манере. Все это было вполне профессионально, свидетельствовало о хорошем вкусе и обширной поэтической эрудиции. Не хватало одного – собственного голоса. Федерико молчал, опустив голову.
Тот, видимо, почувствовал – ноздри его раздулись, резче обозначились скулы. «Романс о бессоннице», – начал он, и с первых слов Федерико узнал интонацию «Цыганского романсеро», подхваченную уже многими подражателями. Но здесь она была нарочито подчеркнута, заострена до пародийности... Ах, вот оно что! Этот парень, оказывается, ступал в чужой след не бездумно; он не отгораживался от влияний, а впускал их в себя – так впускают вражеский отряд в осажденную крепость, чтобы справиться с ним внутри, обезоружить, вызнать секреты, а там, глядишь, и перейти в наступление. Рискованный способ, требующий абсолютной уверенности в собственных силах! Вскинув голову, Федерико синтересом посмотрел в сумрачные глаза Николаса. «Ты понял?» – требовали эти глаза, и он закивал, улыбаясь: понял, понял.
Говорить о стихах не стали. Исполнившись доверия к Федерико, Гильен охотно отвечал на его расспросы. Он родился в Камагуэе, где отец его был одним из вождей либеральной партии. В семье любили говорить о двух предках – об отцовском, конквистадоре, и о том черном, привезенном из Африки, к которому восходил материнский род. Первое воспоминание детства: всадники в широкополых шляпах скачут по улице – это девятьсот шестой год, гражданская война, новая американская оккупация. Николасу не исполнилось еще пятнадцати лет, когда отца расстреляли солдаты правительства. Бедность, отчаянные усилия матери вырастить шестерых детей, работа в типографии пополам с ученьем... И все унижения, выпадающие на долю человека смешанной крови.
Знает ли Федерико, что на Кубе судьба человека и теперь во многом зависит от цвета кожи? Что после двух революций, после принятия конституции, в которой торжественно провозглашено равенство всех граждан, до сих пор существуют места, где неграм и мулатам лучше не появляться? Попробуй-ка они в том же Камагуэе зайти в парк Аграмонте! И это на Кубе, которой негры дали лучшие ее ритмы, танцы, красочные обряды!
Голос Николаса вдруг потеплел. Он заговорил, все более увлекаясь, о легендарной негритянке Теодоре Хинес, по прозвищу «Ma Теодора», прославившейся своими плясками и куплетами еще в XVI веке, о том, как и поныне на улицах Гаваны устраивают карнавальное шествие, или скорее игру с гигантским изображением змеи, о состязаниях певцов-импровизаторов, старающихся перещеголять друг друга в остроумии и находчивости. А песенки городских окраин? Ведь это же целый эпос с постоянными героями – легкомысленной Аделой Кинь Грусть, прелестной мулаткой Марией де ла О, негром-губошлепом Перико Требехо!..
Федерико взмолился: он должен во что бы то ни стало услышать, увидеть своими глазами все это – ну, разве что кроме певицы XVI века! Упрашивать Гильена не пришлось. Очень довольный, он тут же повел Федерико в черные кварталы – в Гуанабакоа, в Реглу, распахнул перед ним двери Академии негритянского танца, куда вообще-то посторонних не допускали, а после потащил его по кабачкам, барам и прочим заповедным местам, где все знали Николаса и дружелюбно приветствовали его спутника, где Гавана плясала и пела не для туристов, а для себя самой.
Не один вечер просидели они вдвоем за бутылкой золотистого гаванского рома под колдовские звуки, извлекаемые из дерева, металла, обожженной глины и высушенных тыкв длинными черными пальцами музыкантов. Облокотившись на стол и держа рюмку перед глазами – он называл это: «видеть жизнь в ромовом свете», – Федерико внимательно слушал пояснения Гильена, великого знатока народных музыкальных форм – дансонов, румб, гуарачей.
Особое предпочтение Николас отдавал сону, танцу-песне, пришедшему из Сантьяго и полнее всего воплотившему кубинский характер. В соне, утверждал он, можно выразить любое чувство – так велико его ритмическое разнообразие и такую свободу предоставляет он для импровизации. А впрочем, что тут объяснять! Загоревшись, он переглядывался с музыкантами, обменивался несколькими словами с ближайшими соседями, и вот уже воцарялась тишина в кабачке, трехструнная гитара с барабаном-бонго начинали выплетать свои узоры, и какой-нибудь оборванец, выйдя на середину, затягивал сон о Папе Монтеро:
Сеньоры,
сеньоры,
мне родные покойника
оказали доверье,
чтобы прогнал я горе,
которое мыкал всю жизнь
Папа Монтеро.
Раздавался яростный взрыв ударных инструментов. Затем вступал общий хор посетителей, то ли всерьез подражая заупокойной молитве, то ли кощунственно ее пародируя: