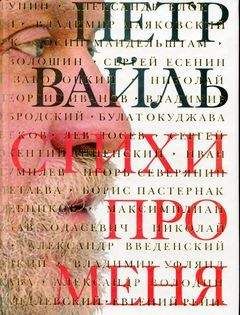У его любимых Тютчева и Баратынского природа тоже равнодушна. Это тютчевский небесный театр над Магаданом: "Одни зарницы огневые, / Воспламеняясь чередой, / Как демоны глухонемые, / Ведут беседу меж собой". Ничего не слыша, объясняются на своей азбуке — но все же элегически, а не свирепо. Заболоцкий пошел дальше Тютчева и Баратынского. Их метафизика у него переходит в физику, умозрительность оборачивается повседневностью — лагерем.
Горячо откликнувшийся на идеи Циолковского и Вернадского, Заболоцкий верил в единство живого и неживого мира, в переселение душ (метемпсихоз, сансару), в то, что в каждой частице — неумирающее целое. Он обещал после смерти проявиться многообразно: цветами и даже их ароматом, птицей, зарницей, дождем. Обращаясь к умершим друзьям, перечислял им подобных: "цветики гвоздик, соски' сирени, щепочки, цыплята". Знал, что "в каждом дереве сидит могучий Бах и в каждом камне Ганнибал таится". Иными словами, окружающий мир и есть человечество. Тот самый мир, который — тупо равнодушная "вековечная давильня".
Что же думал о людях этот человек, спокойно и доброжелательно глядящий с фотографий сквозь круглые очки на круглом мягком лице?
Заболоцкого — по бессмысленному, но популярному обвинению в контрреволюционном заговоре — посадили в 38-м. Его пытали и били так, что он едва не потерял рассудок. В коротеньком прозаическом очерке "История моего заключения" написано: "В моей голове созревала странная уверенность в том, что мы находимся в руках фашистов, которые под носом у нашей власти нашли способ уничтожать советских людей, действуя в самом центре советской карательной системы". Ни в чем не сознавшийся и никого не назвавший, приговоренный к пяти годам лагерей, Заболоцкий прошел Дальний Восток, Алтай, Казахстан, был и на общих работах, на лесоповале, но повезло: устроился чертежником в лагерном строительном управлении. К нормальной жизни, на волю, вернулся в начале 46-го.
Бог знает, чего мы только не знаем о тех годах. Но изумлению нет предела. Имеется документ НКВД, где написано дословно следующее: "По характеру своей деятельности Саранское строительство не может использовать тов. Заболоцкого по его основной специальности писателя". И дальше: "Управление Саранстроя НКВД просит правление Союза писателей восстановить тов. Заболоцкого в правах члена Союза Советских писателей..." Надо дух перевести и перечесть: не писатели просят чекистов вернуть собрата, а чекисты предлагают писателям забрать коллегу. Ну, нет такой штатной должности — писатель — в лагерях, вот незадача.
Мемуаристы единогласно отмечают категорическое нежелание Заболоцкого вспоминать о заключении, как и более тяжелые последствия: он не терпел никакой критики власти, ни намека на неблагонадежность. На видном месте держал собрания сочинений Ленина и Сталина. Отказывался встречаться с людьми, имевшими репутацию инакомыслящих. Ни разу, до самой смерти, не увиделся с родным братом, тоже отсидевшим срок: они, отмечает сын Никита, "только переписывались и однажды говорили по телефону". В 1953 году написал в стихотворении "Неудачник": "Крепко помнил ты старое правило — / Осторожно по жизни идти".
Наталия Роскина, полгода (в 56 — 57-м годах) прожившая с Заболоцким, рассказывает, как он собрался порвать с ней, когда она высказалась о преимуществах капитализма перед социализмом. Как страшно раскричался, когда в писательском доме отдыха в Малеевке Роскина вслух сказала о себе: "Я не советский человек". Как просил от нее честного слова, что она не занимается "химией". Его терминология: "Для меня политика — это химия. Я ничего не понимаю в химии, ничего не понимаю в политике и не хочу об этом думать". Роскина заключает: "Ни в коем случае я не хочу сказать, что Николай Алексеевич был мелким трусом. Я не хочу сказать, потому что я совсем так не думаю. Напротив, я думаю, что весь кошмар нашей жизни заключается не в том, что боятся трусы, а в том, что боятся храбрые".
О том, что увидел и узнал Заболоцкий о человеке и человечестве в лагерях, мы можем судить лишь по единственному свидетельству — "Где-то в поле возле Магадана". Даже "История моего заключения" заканчивается фразой: "Так мы прибыли в город Комсомольск-на-Амуре". О том, что дальше — нигде ничего. Нигде ничего — впрямую. Косвенно — и после, и до. Поэтическое чудо — до.
В 36-м, за два года до ареста — стихотворение "Север". Пророчество, произнесенное Заболоцким, еще ни на каком Севере не бывавшим: "Теперь там все мертво и сиротливо... / Люди с ледяными бородами, / Надев на голову конический треух, / Сидят в санях и длинными столбами / Пускают изо рта оледенелый дух..." А вокруг: "Лежит в сугробах родина моя".
После, в первом за десять лет стихотворении Заболоцкого в печати — "Творцы дорог", — уже более объяснимо и предметно: "В необозримом вареве болот, / Врубаясь в лес, проваливаясь в воды, / Срываясь с круч, мы двигались вперед. / Нас ветер бил с Амура и Амгуни..."
Нам уже не вообразить, каково это читалось в "Новом мире" в 47-м — страной, где почти в каждой семье были такие творцы дорог. В моей — расстрелянный дед Михаил и отсидевший десять лет дядя Петя, в память которого назвали меня. А каково смотрелся фильм того же 47-го года "Поезд идет на восток"? Поезд, идущий точно по маршруту Заболоцкого и миллионов других, набитый веселыми и счастливыми пассажирами, очень-очень хорошими: одни чуть легкомысленны, другие чуть рассеянны, третьи суховаты, четвертые резковаты, но все заодно, и на перроне всех ждут с оркестром.
Одно из самых таинственных произведений русской поэзии — "Сон" 1953 года. Заболоцкий поздравил себя с пятидесятилетием по-дантовски: "Жилец земли, пятидесяти лет, / Подобно всем счастливый и несчастный, / Однажды я покинул этот свет / И очутился в местности безгласной".
Настрой на умозрительное инфернальное путешествие, однако, исчезает по мере чтения этого странного юбилейного стихотворения: "Там человек едва существовал / Последними остатками привычек, / Но ничего уж больше не желал / И не носил ни прозвищ он, ни кличек. / Участник удивительной игры, / Не вглядываясь в скученные лица, / Я там ложился в дымные костры / И поднимался, чтобы вновь ложиться... / И в поведенье тамошних властей / Не видел я малейшего насилья, / И сам, лишенный воли и страстей, / Все то, что нужно, делал без усилья. / Мне не было причины не хотеть, / Как не было желания стремиться..."
Заболоцкий рассказывал, что видел такой сон. Многие такой сон видели. Шаламов и Солженицын — подробно записали.
После 56-го, убрав многотомники Ленина и Сталина на антресоли в прихожей, Заболоцкий сочинил поэму "Рубрук в Монголии". В прошлом рыцарь и участник Крестовых походов, монах-францисканец Гийом де Рубрук в середине XIII века был послан Людовиком Святым в Монголию искать несториан. Он прошел из Крыма кипчакскими степями, Нижним Поволжьем и южным Уралом, увидев с помощью Заболоцкого много интересного: "Виднелись груды трупов странных / Из-под сугробов и снегов..."; "Как, скрючив пальцы, из-под наста / Торчала мертвая рука..."; "Так вот она, страна уныний, / Гиперборейский интернат..."; "Широкоскулы, низки ростом, / Они бредут из этих стран, / И кровь течет по их коростам, / И слезы падают в туман".