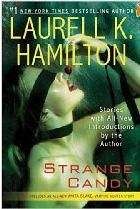Личные несчастья и несчастья целых народов оставляют в силе непрестанно обращаемое к Богу обвинение, выражающееся в слове: «Почему?» Нам кажется логичным Провидение, которое печется о людях и истории, — такое, как в проповедях Боссюэ[367], вознаграждающее и наказывающее. А если расширить это до масштабов вселенной, то наше требование добра удовлетворил бы только Бог милосердный, который не предавал бы боли и смерти миллиарды живых существ. Создать такую вселенную, как эта, — нечестно. «А почему Я должен быть честным? — спрашивает Бог. — С чего вы это взяли?»
Несчастье просто есть. И когда ты облепляешь его воском, твоя совесть нечиста, ибо, возможно, ты должен посвятить ему все свои силы и все свое внимание. А в свою защиту ты можешь сказать лишь: «Я хочу жить».
Обязанности
Мне было жаль их, а они, должно быть, воспринимали мою дистанцированность как проявление презрения. Живя среди иностранцев, они ежедневно испытывали чувство неполноценности. Вроде бы с этим можно справиться, ссылаясь на «польскую культуру», но панская культура, включая романтизм и восстания, была для них малопонятна — почти как для чужих, говорящих на другом языке.
В своем эмигрантском романе «Туристы из аистового гнезда» Чеслав Страшевич описал моряка Костека, который путешествует со своей «конституцией», то есть польской поваренной книгой и, оказавшись в Южной Америке, чувствует себя выше туземцев, ибо те не знают польских блюд: «Индейцы — они темные». Впрочем, в том же романе оплотом шляхетской культуры представлен Сенкевич. Офицер УБ из Гдыни ежедневно экзаменует в постели жену на знание Трилогии[368].
Поваренная книга, художественная вырезка из бумаги, краковяк — маловато этого. Единственное, чем они могли заслуженно гордиться, это колядки. Поймите сложность моего положения. Сознавая элитарный характер польской культуры и огромное расстояние, отделяющее в ней верхи от низов, я принадлежал к узкому кругу избранных, совершавших весьма своеобразные ритуалы. Хуже того, я был последним потомком мелкопоместной шляхты, и действия демона кофеен Гомбровича, который пытался заразить своих еврейских друзей манией гербов и генеалогии, казались мне символичными для поглощения остатков этой шляхты средой литературных кафе. Следует также добавить, что я рос за пределами этнически польских земель.
Что же делать? Как «присутствовать» на торжественных мероприятиях? Польская народная музыка кажется мне убогой, краковяк и оберек смешат меня, Шопен раздражает, поскольку его вытаскивают при любом удобном случае, а еще потому, что сам я люблю классическую музыку[369]. Этого достаточно, чтобы не участвовать в разнообразных празднествах. А ведь я был верным служителем польского языка и того, что он несет в будущее. И тут вдруг навязанная мне (хотя и не мне первому) роль: если нельзя с ними, то хотя бы для них. Тягостно, но, в конце концов, Пилсудский тоже так говорил. Я с уважением думаю о тех, кто выбрал для себя деятельность в польской диаспоре, но это было явно не мое место. Скорее я старался доказать, что можно оставаться собой, не подлизываться к Западу и в то же время побеждать на своих условиях. Обреченный попадать к публике через переводы на английский, я ощущал обязанности по отношению к «польской культуре», но не к той, увечной, разделенной на изысканную и невежественную.
Орда, Ежи
Этот потомок известного аристократического рода был маленьким человечком с яйцевидной, почти лысой, несмотря на юный возраст, головой — таким близоруким, что носил толстые стекла, выпуклые, словно очки водолаза. В его внешности и манере поведения было нечто смешившее людей, и в Вильно тридцатых годов он слыл личностью забавной и эксцентричной. В то же время невозможно было представить себе, чтобы его волновали авангардные или левые идеи, чтобы он был одним из нас — в «Жагарах», на выборах в «Братняк» в 1931 году или в группе Дембинского и его журнале «По просту»[370]. Он был старше нас всего на пару лет, но тем не менее пользовался привилегиями старейшины и стоял в стороне от всех этих начинаний. Это он, выступая свидетелем на процессе Дембинского и товарищей в 1936 году, на вопрос, каковы его политические взгляды, с серьезным видом поднял палец и ответил: «Анархист». А затем добавил: «В духе святого Августина».
Книжный червь, эрудит. Не помню, где он учился. Кажется, у него был докторат по истории. Его истинной специальностью, любовью и профессией была столица Великого княжества Литовского, Вильно, его прошлое и архитектура. Возможно, у других городов тоже есть исследователи, которые любят старые камни и корпят над летописями. Вильно обрел своего знатока и поклонника в лице доктора Ежи Орды. А поскольку он вел аскетический образ жизни, нуждаясь лишь в самом необходимом, то казалось, что никакие карьерные искушения не оторвут его от бумаг и книг.
Не оторвали его и политические события. Орда пережил в Вильно войну и депортации на Восток и не присоединился к великому исходу интеллигенции после 1945 года. Любопытно, с кем он потом дискутировал, если вся его среда, связанная с университетом, институтами и библиотеками, эмигрировала. Может быть, поскольку предмет его любви, город барочных храмов, спасся от разрушений, язык не был для него важен, и он нашел таких же фанатиков среди литовских поклонников Вильно? Я пытаюсь представить себе Орду жителем Советской Социалистической Республики, и у меня это не очень-то получается. Умер он в 1972 году. Остается надеяться, что десятки лет жизни в печальном, посеревшем городе не слишком тяготили его и внутренним оком он всегда созерцал его красоту.
Отвращение
Об этой сцене времен русской революции мне рассказал Юзеф Чапский. В буфете на железнодорожной станции обедал мужчина, отличавшийся от окружающих костюмом и поведением и явно принадлежавший к довоенной интеллигенции. Он привлек к себе внимание нескольких сидевших в ресторане хулиганов, которые подсели к нему, начали над ним насмехаться и, наконец, плевать ему в суп. Человек этот не защищался и не пытался прогнать обидчиков. Это продолжалось довольно долго. Внезапно он выхватил из кармана револьвер, сунул себе в рот и застрелился. Видимо, случившееся стало последней каплей, переполнившей чашу страданий, которые причиняло ему распоясавшееся безобразие. Наверное, он был тонкокожим и воспитывался в мягкой среде, которая плохо защищала от все более грубой реальности, воспринимавшейся низами общества как норма. После революции эти грубость и вульгарность вырвались наружу и стали атрибутом советской жизни.