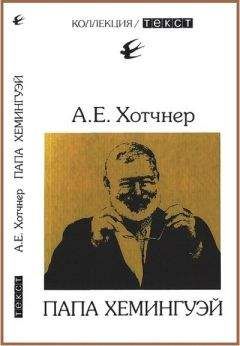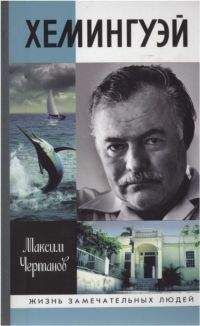В тот вечер Эрнест сильно напился. Весь ужин, центральным блюдом которого были куропатки, купленные им в Сеговии, он непрерывно спорил с Мэри. В результате он даже не притронулся к ним. Мэри, как только смогла, вышла из-за стола, оставив меня и Эрнеста доедать десерт (сезон еще не наступил, и мы были одни в зале). Эрнест не умолкал ни на минуту, и не всегда его речь была связной. Он говорил о войне и успел выпить несколько бутылок вина. Его планы рушились, и он погружался в прошлое, словно ища там опору.
Когда наконец я дотащил его до номера, он вдруг остановился перед дверью и уставился на лампу, висевшую на стене. Приняв стойку боксера, он несколько раз сделал выпад левой рукой и вдруг нанес лампе хук слева, да так, что стекло разбилось, а металлический держатель упал на ковер. Эрнест сильно поцарапал пальцы, пошла кровь, но его это мало волновало. Он положил неповрежденную руку мне на плечо и внимательно посмотрел на меня.
— Хотч, в своей жизни я напивался тысячу пятьсот сорок семь раз, но никогда — утром.
С этими словами он открыл дверь и исчез в своем номере.
На следующее утро Эрнест вошел в мой номер в сопровождении гостиничного парикмахера и спросил, можно ли ему подстричься здесь, чтобы не будить Мэри. Он выглядел очень бледным, и кожа на лице была сухая, как пергамент.
— Ночью придумал новое двойное dicho. Мысль — враг сну.
Поскольку на следующий день я уже уезжал, Эрнест считал, что сегодня я должен непременно побывать в Прадо и в последний раз пообедать в «Кальоне».
Мы собирались двинуться в десять часов, но только к половине двенадцатого Эрнест закончил все приготовления к отъезду — положил фляжку, куртку для машины, кепки, салфетки для очков, расческу, швейцарский консервный нож, деньги, талисман (каштан), запасное пальто и пробы мочи, которые планировалось отвезти доктору.
В холле к нам подошли два человека, представившиеся как репортер и фотограф одного немецкого журнала.
— Мне кажется, ребята, я вам говорил, когда вы мне звонили из Мадрида, что никаких интервью не будет, — сказал Эрнест.
Репортер объяснял, что ему было приказано любой ценой получить интервью, и он умолял Эрнеста лишь о десяти минутах, иначе он потеряет работу. Эрнест заявил, что мы хотим успеть попасть в Прадо до закрытия музея, но он сделает им одолжение и проведет с ними десять минут. При этом — никаких снимков. Мы прошли на террасу перед баром, и Эрнест послал за виски, которое должно было скрасить эти десять минут мучений.
С самого начала беседы стало ясно, что репортер не прочел ни одной книги Хемингуэя. На ужасном английском с диким акцентом он спросил Эрнеста:
— Вы первый раз в Испании? Видели ли вы корриду раньше? Вы знаете испанский? Вы сами пишете свои романы или диктуете их кому-то?
Сначала Эрнест сохранял терпение, но, когда репортер спросил его, скольких женщин в своей жизни он любил, Эрнест взорвался:
— Черных или белых?
— И тех, и других.
— Черных — семнадцать, белых — четырнадцать.
Репортер все старательно записал в блокнот.
— А какие вам больше нравятся?
— Белые — зимой, черные — летом.
Эрнест несколько раз порывался уйти, но молодой немец был настойчив и все не отпускал нас. И вдруг без всякого предупреждения Эрнест опрокинул бокал виски в лицо фотографа.
— Говорил тебе, никаких снимков, сукин сын!
Фотограф опустил камеру и носовым платком обтер сначала аппарат, а потом — свое лицо, объяснив, что он фотографировал отель и совсем не герра Хемингуэя, при этом он все время извинялся и кланялся. Я же, имея некоторый опыт работы с фотоаппаратом, не мог понять, как можно снимать отель, когда камера нацелена на человека.
— Но я слышал щелчок затвора, а этот звук для меня — как змеиное шипенье, — заявил Эрнест.
Он помог фотографу вытереться и сказал, что они могут продолжить по дороге в Мадрид.
Я и немцы уселись на заднем сиденье нашей машины. Марио, который никогда не скрывал своей ненависти к немцам (его семья пострадала от нацистов), все это время ждал нас в «ланчии». Он явно обрадовался, услышав слова Эрнеста:
— Мы должны быть в Прадо до закрытия, поэтому не жалей лошадей.
Это означало, что Марио разрешалось выжимать из «ланчии» все, на что она была способна.
Дорога в Мадрид была ужасной — узкая, петляющая, с глубокими кюветами по обеим сторонам, запруженная телегами, лошадьми, волами, мотоциклистами. Она явно нуждалась в ремонте. Стрелка спидометра замерла на отметке 115 километров в час. У меня с собой была газета, и я притворялся, что читаю, надеясь при этом, что вид у меня абсолютно невозмутимый, а Эрнест все время спрашивал журналистов:
— У вас есть еще вопросы? Это все, что вам хотелось бы знать?
Краем глаза я видел их позеленевшие и окаменевшие лица, вздрагивавшие каждый раз, когда Марио на бешеной скорости обгонял ползущие по дороге повозки. Уже через девятнадцать минут мы были у входа в Прадо (как правило, на путь от отеля до музея у нас уходило тридцать две минуты). Нам пришлось помочь немцам вылезти из машины. Сквозь зубы они поблагодарили нас и растворились в толпе. Эрнест пожал Марио руку и сказал, что он заслуживает высокой награды.
— Запомни этот день, — гордо сказал Эрнест, когда мы поднимались по ступеням в Прадо, — День, Когда Честный Эрни Не Дал Себя Обидеть.
Эрнест очень любил Прадо. Он входил в музей, как в храм. Настоящее искусство всегда играло большую роль в его жизни (он часто говорил, что учился описывать пейзажи, глядя на картины Сезанна, Моне и Гогена в Люксембургском музее). А в Прадо хранились, как считал Эрнест, самые значительные полотна в мировой живописи.
В музеях и картинных галереях Эрнест никогда не осматривал всю экспозицию — он всегда сразу шел к своим любимым вещам. Иногда он приходил в музей ради встречи лишь с одной картиной. Он мог пробежать весь зал Тициана, не взглянув ни на одно полотно, и застыть перед картиной, которую хотел увидеть. Он смотрел, вбирая ее всю, глядя на нее столько времени, сколько хотела его душа. Однажды я был с ним в Академии изящных искусств, где он простоял перед полотном Веронезе «Праздник в доме Левия» двадцать минут. В другой раз мы пошли в Музей импрессионистов в Париже посмотреть на картину Сезанна.
— Всю жизнь мечтал, чтобы мои сочинения были так же хороши, как эта картина, — признался Эрнест. — Пока не получилось, но с каждым днем я все ближе к цели.
В основе его знания искусства, художников и их творчества лежало множество прочитанных книг и уникальное ощущение цвета и формы. Эрнест лично знал многих художников, бывал в местах, которые они изображали на своих полотнах. Миро, Пикассо, Матисс, Брак, Грис, Мэссон и Моне были его современниками и добрыми знакомыми, и, конечно, в восприятии их творчества Хемингуэю помогало глубокое понимание их индивидуальности, их жизненной философии и устремлений. Эрнест всегда пытался ощутить, как он говорил, «чистое чувство», понять, в чем душа картины, цель художника. Он сравнивал работу писателя и художника, говоря, что у них общая задача — высечь «чистое чувство», лишь методы разные: в распоряжении художника имеются все краски, а писатель печатает слова на машинке или пишет рукой, пользуясь только белым и черным цветами.