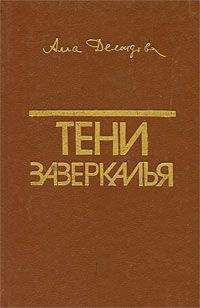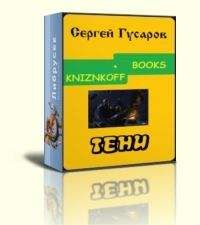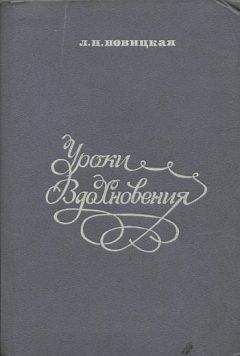Не возмездие, а — самоубийство…
Во всяком случае, роль Гертруды стала для меня одной из любимых. А роль Гамлета, самоуверенно заявленная в давнем интервью… что ж?., она не сыграна и, скорее всего, не будет сыграна никогда, но все же — ничего не пропадает. И мне кажется, что я сыграла ее, по кусочкам, по черточкам и строчкам, — сыграла и в «Дневных звездах», и в фильме «Иду к тебе» — о Лесе Украинке, и в других своих любимых ролях.
Для меня Гамлет — это прежде всего талант. Человек, которому дано видеть больше, чем другим. А кому много дано, с того много и спросится. Разве это не имеет отношения к вечной проблеме о месте художника в жизни, особой ответственности таланта за все, что его окружает? О невозможности играть в прятки со временем?.. Вот почему Гамлет не может бездействовать, хотя знает, что это приведет его к гибели. И он решает: быть — и вступает в бой… В вечный бой, который продолжают все Гамлеты всех времен.
Сегодня почти не играют трагедий. А если и играют, то как драмы. С логическим обоснованием поступков, с понятным переходом из куска в кусок. Может быть, возникла защитная реакция у зрителя — после мировых войн, после массовых убийств, после Хиросимы, потока информации и стрессов. Сегодня человек сидит у себя в халате дома, пьет чай и смотрит по телевизору, как на Луну высаживается другой человек. И что после этого может сделать один актер в театре? Со своим слабым голосом, несовершенной пластикой и сомнениями, разъедающими душу. Как достичь чуда, когда, «расплавленный страданьем, крепнет голос и достигает скорбного накала негодованьем раскаленный слог»?
Необходимая предпосылка трагедии в театре — готовность зрителя услышать трагическую ноту, попытаться не «понять», а «почувствовать» то, что зачастую словами трудно объяснить, уметь в малом увидеть общее; ведь «трагическое, на каком бы малом участке око ни возникало, неизбежно складывается в общую картину мира», — писал Мандельштам.
Репетировали мы «Гамлета» долго. Около двух лет. Премьера состоялась 29 ноября 1971 года.
Главным звеном в спектакле стал занавес. Давид Боровский — художник почти всех любимовских спектаклей — придумал в «Гамлете» подвижный занавес, который позволял Любимову делать непрерывные мизансцены. А когда у Любимова появлялась новая неиспользованная сценическая возможность, его фантазия разыгрывалась, репетиции превращались в увлекательные импровизаций — всем было интересно.
Когда после комнатных репетиций вышли на сцену, была сооружена временная конструкция на колесах, которую сзади передвигали рабочие сцены. За время сценических репетиций стало ясно, что конструкция должна легко двигаться сама собой. Как? Может быть, повернуть ее «вверх ногами», то есть повесить на что-то сверху. Пригласили авиационных инженеров, и они над нашими головами смонтировали с виду тоже легкое, а на самом деле очень тяжелое и неустойчивое переплетение алюминиевых линий, по которым занавес двигался вправо-влево, вперед-назад, по кругу. Эта идея подвижного занавеса позволила Любимову найти ключ к спектаклю, его образ. Потом в рецензиях критики будут, кстати, в первую очередь отмечать этот занавес и называть его то роком, который сметает все на своем пути, то ураганом, то судьбой, то «временем тысячелетий, которые накатываются на людей, сметая их порывы, желания, злодейства и геройства», в его движении видели «…дыхание неразгаданных тайн». Занавес существует в трагедии как знак универсума, как все неопознанное, неведомое, скрытое от нас за привычным и видимым. Его независимое, ни с кем и ни с чем не связанное движение охватывает, сметает, прячет, выдает, преобразуя логическую структуру спектакля, вводя в него еще недоступное логике, то, что «философии не снилось»…
Но главное, такой занавес давал возможность освободиться от тяжелых декораций, от смен картин, которые останавливали бы действие и ритм. Одно событие накатывало на другое, а иногда сцены шли зримо в параллель…
По законам театра Шекспира, действие должно было длиться непрерывно. Пьеса не делилась на акты.
Занавес в нашем спектакле позволял восстановить эту шекспировскую непрерывность и в то же время исполнял функцию монтажных ножниц: короткие эпизоды, мгновенные переброски действия, перекрестный, параллельный ход действия, когда на сцене чисто кинематографическим приемом шла мгновенная переброска сцены Гамлета — Офелии на подслушивающих за занавесом эту сцену Клавдия и Полония. Или в сцене Гертруда — Гамлет один лишь поворот занавеса позволял зрителю увидеть предсмертную агонию Полония… Громоздкому театральному Шекспиру в кинематографе Любимов противопоставлял легкого современного кинематографического Шекспира в театре.
Ну а пока — на репетициях — мы, актеры, дружно ругали этот занавес, потому что он был довлеющим, неуклюжим, грязным (он был сделан из чистой шерсти, и эта шерсть, как губка, впитывала всю пыль старой и новой «Таганки»), но, главное, от ритма его движения зависели наши внутренние ритмы, мы должны были к нему подстраиваться, приноравливаться; ну а скрип алюминиевой конструкции иногда заглушал наши голоса.
Однажды на одной из репетиций шла сцена похорон Офелии, звучала траурная музыка, придворные несли на плечах гроб Офелии, а за ним двигалась свита короля (я помню, перед началом этой сцены бегала в костюмерную, рылась там в черных тряпочках, чтобы как-то обозначить траур), так вот, во время этой сцены, только мы стали выходить из-за кулис, как эта самая злополучная конструкция сильно заскрипела, накренилась и рухнула, накрыв всех присутствующих в этой сцене занавесом. Тишина. Спокойный голос Любимова: «Ну, кого убило?» К счастью, отделались вывихнутыми ключицами, содранной кожей и страхом, но премьера отодвинулась еще на полгода из-за необходимости создания новой конструкции.
Через полгода были сделаны по бокам сцены крепкие железные рельсы, между ними шла каретка, которая держала, как в зажатом кулаке, тяжелый занавес. Занавес в своем движении обрел мобильность, легкость — и с тех пор стал нести как бы самостоятельную функцию. Он был страшный, коричнево-серый, плетенный вручную на полу нашего фойе умелыми руками студентов художественных училищ. Несколько дней и ночей они плели этот уникальный занавес. Каждый взял себе квадрат сетки и начинал на нем что-то вывязывать по своей фантазии. Естественно, у каждого получалось что-то свое. Некоторые из нас тоже к этому прикладывали руки. Я, например, знаю, что нижний левый бок занавеса — мой.
Иногда при особом освещении занавес походил на разросшуюся опухоль с многочисленными метастазами, иногда на просвет казался удивительно тонкой красивой ажурной паутиной, как флером времени отделяя житейскую реальность от иррационального, иногда тяжелой массой налетал на хрупкую фигуру Гамлета, иногда выполнял просто функцию трона: в середину занавеса удобно садились король и королева; иногда на нем, как на качелях, раскачивалась Офелия; иногда он был плащом и одновременно ветром в сцене Гамлета, Горацио и Марцелла — одним словом, функции этого занавеса были многочисленны, и в каждой сцене он выполнял какую-нибудь свою роль.