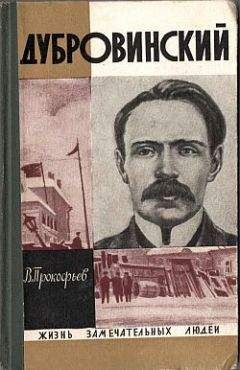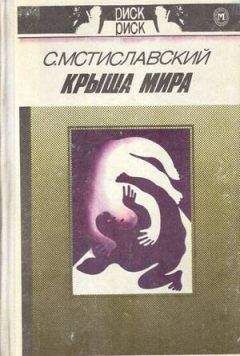Бутырская тюрьма. Этап в арестантском вагоне. Долгий путь до Красноярска. От этого города две тысячи верст вниз по Енисею на станок Баишенский…
Крохотная изба. Старый дед, хозяин, и товарищ по несчастью, политический ссыльный Филипп Захаров…
Прошла зима. Иосиф Федорович втянулся в нелегкий быт маленькой деревушки. Он вошел в нелегальную организацию ссыльных Енисейской губернии «Союз ссыльных Туруханского края».
Иногда удавалось побывать на других станках и даже в селе Монастырском – столице ссылки. Ссыльные старались не отставать от жизни, от политической борьбы, бушевавшей за тысячи и тысячи верст от них.
Дубровинский выступал с докладами, рефератами.
Не часто приходили письма, посылки с книгами. Но когда они приходили, то они поддерживали, не позволяли впасть в уныние.
Департамент полиции тоже не забывал Дубровинского. Особый отдел департамента запрашивал начальника Енисейского жандармского управления:
«…находится ли в настоящее время на водворении в ссылке курский мещанин Иосиф Федорович Дубровинский, так как, по поступившим сведениям, названный Дубровинский бежал из ссылки и ныне находится за границей».
Но Дубровинский не бежал. Не мог бежать. Губительный климат Туруханского края обострил болезнь. О побеге в таком состоянии нечего было и думать.
Иосиф Федорович много читал. И с каждой почтой слал письма.
«Дорогие Таля и Верочка!
Теперь и у нас лето. Енисей около 20 мая очистился ото льда. Воды много-много; затопило большое пространство леса, и мы плаваем на лодках там, где зимой бегали на лыжах. Теперь начинается рыболовство. Поэтому жить лучше: едим осетрину, а на самый худой конец – налимов.
Зимой плохо, потому что мясо (оленину) здесь достать можно только изредка.
Жалко, погода скверная: дожди часто, а еще чаще ветры. Летом здесь главная беда – мошкара. Из-за нее нельзя ни гулять, ни работать в лесу. Окна все время (до августа) наглухо затянуты материей; спать приходится под пологом.
На воде легче; необходимо только закрыть всю голову сеткой (как дамской вуалью) и быть в рукавичках.
Читать летом уже не приходится. Это не беда, зима-то ведь длинная-предлинная.
Напишите, как живете.
Крепко целую.
Папа».
Так прошел еще год.
В начале 1913-го Дубровинский узнал, что по случаю 300-летия царствующего дома Романовых объявлена амнистия и ему па год сокращен срок ссылки.
Кончилась и эта зима. И ушла куда-то ночь. И снова, как в прошлые годы, слепит уже надоевшее солнце. В неверных отсветах полярной ночи старая, похилившаяся часовня с прогнившим деревянным крестом, бог весть как зацепившимся за ее макушку, напоминала о вечности и смерти.
Теперь, днем, высвеченная ярким солнцем, она только гнилушка. Замшелая, трухлявая и забытая богом, как, впрочем, и все в этом краю.
Зимой горбатые хатенки проклевывались сквозь снежные наметы чернотой крыш и труб. А теперь они стоят раздетые, в неопрятном неглиже серо-зеленых бревен, скособочившихся крылечек и щурятся на солнце подслеповатыми щелочками редких окон.
Но зимой, в ночи, не видно, сколько здесь хат. Весной кажется, что выросли новые.
Нет, все тот же десяток домишек. И тот же край обжитого пятачка упирается в лес. В лесных укроминах ноздреватый, почерневший снег упрямо жмется в тень разлапистых елей. И не хочет таять. Он дождется летних дождей, и они смоют его с насиженных мест. Но лес так и не просохнет до следующий зимы.
И только на опушке, перебивая запахи тлена, невысокая трава да скромное соцветие вереска, брусники чуть напомнят о дурмане сенных просторов далекой России.
Часы показывают, что наступила ночь. Но это условное обозначение времени. Солнце, если и заходит, все равно светло. А через несколько дней оно будет только чуть-чуть приседать к горизонту. Заглянет за край земли и снова полезет на крутой небесный склон.
Появилась мошкара. Она не знает устали, и от нее нет спасения ни днем, ни «ночью». Теперь уже до августа лучше не ходить в лес: ни сетка, ни рукавицы не уберегут от полчищ кровопийц.
На воде легче. В середине мая Енисей очистился ото льда, но еще не вошел в привычное русло. «Снежница» затопила лес па противоположном низком берегу. Течение сильное, и река вскипает, кружится в водоворотах. Не дай бог сейчас оказаться в воде – холодно, судороги схватят ноги, руки, и нет спасения.
Даже местные рыбаки на середину выходят только партиями, по три-четыре лодки вместе. Утлые суденышки жмутся друг к другу, сообща преодолевают водовороты. Дней через 5 – 10 река опадет.
Но ни у кого уже нет мочи ждать.
Люто наголодался народ за долгую зиму. И теперь риск не в счет. В Енисее полно налимов, судаков, окуней, да и осетры не редкость.
Дед Прокопий уже стар, но тоже ушел на реку.
Филипп Захаров пытается уснуть. Куда там! Мошкара и солнце отгоняют сон. Филипп время от времени вскакивает, ошалело поводит налитыми кровью и сонной мутью глазами. Ругается так страшно, что кажется – вот схватит ружье и начнет палить в светило. Или грянет об пол и будет кататься и выть, выть тоскливо, тоскливо, как воют псы, сатанеющие от «поцелуев» гнуса.
Дубровинский пытается читать. Но это самообман. Строчки прыгают перед натруженными, усталыми глазами. Мошкара забралась под вуаль, нестерпимо хочется сорвать сетку и чесать, чесать нос, щеки, уши, лоб. И выть. Чем он хуже Филиппа?
До окончания ссылки осталось пять месяцев. Они будут тянуться нескончаемо. В октябре он уедет отсюда. К этому времени станет Енисей. По льду легче добраться до Туруханска. А дальше не хочется и загадывать… Значит, нужно собрать все силы, всю волю и скоротать лето и осень. Это не так-то просто. В этом, 1913-м ему не придется ставить дрова, запасаться соленой и вяленой рыбой – разве что на дорогу.
Но без работы пропадешь. А за работой время идет быстрее. И отступят горькие мысли, совсем было одолевшие его минувшей зимой.
Дед Прокопий уже стар. Он ему и поможет, если, конечно, хватит сил. Да с ребятишками нужно подзаняться. Кто-то еще продолжит с ними уроки будущей зимой?
Но сколько ни придумывал для себя дел Иосиф Федорович, они не могли отвлечь его от тяжелых дум, от тоски.
Зима была такой трудной, так подорвала силы и подточила душу, что он уже не может соскоблить с себя коросту хандры.
Давно нет писем. А ведь он знает, что ему пишут, что его не забыли. Вот только не пробиться почте, пока бурлит Енисей, пока весна растопила дороги. Но попробуй прикажи сердцу! Тоска!..
Вверх к Туруханску силится проплыть пароход. Вверх еще ничего. Только медленно. А вниз пароходы пока еще не идут – течение.
Пароходный гудок долго перекатывается эхом, и почему-то от этого унылого, тоскливого воя сгущается пустота, одиночество, безлюдье.