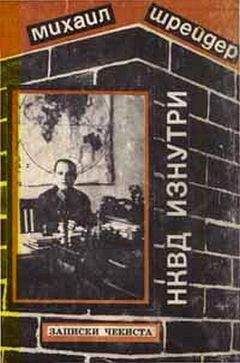— Знаете, батюшка, о чем я вас попрошу? Старик с готовностью пододвинулся ко мне.
— Я — коммунист и в Бога не верю, но вижу, что вы честный человек, и, несмотря на различие наших взглядов, мне кажется, что вы не откажетесь исполнить мою пред смертную просьбу. Я знаю, что меня не сегодня-завтра расстреляют, а у меня в Москве остались жена и сын. (Я несколько раз повторил адрес: Большой Кисельный переулок, 5, квартира 3.) Если у вас когда-либо будет возможность, найдите мою семью и передайте им, что я умер честным коммунистом. (Я был в таком полусумасшедшем состоянии, что забыл о том, что у меня не один, а два сына.)
Михаил Павлович, — перекрестившись, торжествен но сказал священник, — если буду жив, крестом клянусь, что выполню вашу последнюю просьбу.
(Летом 1938 года этот замечательный старик священник приехал в Москву, привез моей жене антоновских яблок, запомнив из моих рассказов в камере, что она их очень любит, и рассказал, что сидел со мною вместе в Ивановской тюрьме, что меня, по-видимому, расстреляют и что я ни в чем не виноват.
Увидев в квартире двоих малышей, старик забеспокоился и подумал, не произошла ли ошибка, так как я говорил об одном сыне. Тогда жена показала ему нашу семейную фотографию, на которой он сразу же узнал меня и увидел двоих ребят. Жена была потрясена его рассказом и взволнована тем, что я забыл о том, что у нас есть второй сын. Она испугалась, что у меня помутился разум.)
Пережитый мною кошмар с расстрелом не давал мне покоя. Сутки или двое меня не вызывали на допрос, и я все время думал, что же мне делать дальше. Что предпринять, чтобы поскорее избавиться от физических и моральных пыток? Подтвердить показания, «выбитые» у товарищей? Но какие? Ведь я не знал, кто из них еще жив (за исключением Чангули, которого недавно видел), а кто, может быть, уже расстрелян. Мое подтверждение могло усугубить их судьбу. Послушаться Артемьева и самому выдумать о себе какую-нибудь нелепицу? Но какую? И, кроме того, если сочинять признания о какой-то шпионской организации, то надо назвать хотя бы одного-двух сообщников. А кого же я могу поставить под удар? Ранее расстрелянных, заведомо мертвых?
И тут я впервые стал думать о том, что если умереть, так с музыкой — и потащить за собою под расстрел кого-нибудь из моих палачей и садистов, на совести которых сотни, а может быть, и тысячи ни в чем не повинных людей.
Я стал лихорадочно обдумывать, кого из них смогу «прихватить» с собой. С Рязанцевым я ранее никогда не встречался и никаких подробностей о его прежней жизни не знаю. Цирулев и Кононов — слишком мелкая сошка. Значит — Нарейко. Ведь он работал в Иванове одновременно со мною, и у нас с ним были кое-какие точки соприкосновения по работе. Можно будет что-нибудь придумать…
Ничего не говоря товарищам по камере, я вызвал вахтера и сказал, что хочу признаться в своих преступлениях лично начальнику УНКВД Блинову.
Артемьев и Севанюк, услышав мое заявление, стали расспрашивать, что я задумал и о чем собираюсь говорить, но я не хотел раскрывать им заранее свой план.
— Узнаете после допроса, — пообещал я.
Вскоре меня вызвали и привели в кабинет Блинова, где находился начальник следственной части Рязанцев.
— Гражданин начальник, — обратился я к Блинову, — мне надо поговорить с вами наедине.
— Ну что ж, наедине, так наедине, — довольно снисходительно разрешил Блинов. — Товарищ Рязанцев, вый дите ненадолго в секретариат.
Когда Рязанцев вышел, я, прежде чем привести в исполнение задуманный план, решил воспользоваться тем, что мы с Блиновым остались без свидетелей, и попытаться призвать к его здравому рассудку: он же не мог не понимать, что я ни в чем не виноват. Но Блинов, услышав мои слова, озверел и стал дико ругаться:
— Ах ты, сволочь этакая! Так ты для того меня бес покоил, чтобы я выслушивал твою липу?
Я понял бесполезность своих попыток разумно поговорить с этим фальсификатором и заявил ему:
— Гражданин начальник, я понимаю, что моя борьба с вами в дальнейшем становится бессмысленной, поэтому я решил рассказать вам всю правду о своей вражеской деятельности. Но я опасаюсь, что вы мне не поверите, потому что я был втянут в шпионскую, вражескую организацию человеком, занимающим очень большую должность, фамилию которого я даже боюсь назвать…
Блинов, как по мановению волшебной палочки, из грубого хама превратился в любезного и внимательного собеседника и вдруг стал называть меня на «вы».
Что вы, Михаил Павлович. Вы же сами были крупным работником, и нам отлично известно, какую большую, руководящую роль вы играли в правотроцкистском центре. Поэтому, пожалуйста, рассказывайте обо всем и ничего не бойтесь. Скажите, кто вас вербовал и чью фамилию вы боитесь назвать?
— Я являюсь шпионом и членом правотроцкистской организации, в которую меня завербовал ваш заместитель… Нарейко… — с видом кающегося грешника, опустив голову, сказал я.
— Я так и знал! — торжествующе воскликнул Блинов, не дав мне закончить фразу, от радости хлопнув себя по ляжкам. — Значит, я не ошибался!
В первый момент я был так ошеломлен его готовностью ухватиться за любую провокацию, что на несколько секунд потерял дар речи. Но затем обрадовался, что мой план удается и я смогу отомстить отъявленному палачу Нарейко, а в дальнейшем, возможно, кому-либо еще. И я стал сочинять обстоятельства моей вербовки.
Насколько помню, примерно я рассказал следующее.
Будучи начальником отделения особого отдела, обслуживающего оперативно милицию, Нарейко ежедневно приходил ко мне с докладами о положении в милиции. (Это действительно имело место.) И вот якобы в то время он узнал о моих связях с женщиной, по национальности — немкой, которая работала в немецкой разведке. Придя ко мне с очередным докладом, Нарейко сказал, что ему известно все о моем сотрудничестве с немецкой разведкой, и предъявил мне ультиматум: я должен дать согласие на сотрудничество вместе с ним в японской разведке, в противном случае он меня разоблачит как немецкого шпиона. (Надо сказать, что женщина-немка действительно существовала: она была женой администратора Ивановского народного Дома, но сохраняла немецкое подданство. Кажется, в 1937 году была получена директива НКВД СССР об аннулировании виз всем иностранцам, подданным других государств, проживающим на территории СССР. Эта работа возлагалась на органы милиции, так как нам подчинялось Бюро виз и регистрации иностранцев. И в тех случаях, когда начальник Бюро виз не мог самостоятельно разрешить какой-либо вопрос, он вместе с тем или иным иностранцем приходил на прием ко мне или к моему заместителю. Как-то мне позвонил по телефону художественный руководитель и главный режиссер Ивановского драмтеатра, заслуженный артист республики Курский и попросил меня оставить в Иванове жену администратора театра, по национальности немку. Со слов Курского, она была дочерью антифашиста, томящегося в гитлеровском концлагере, и высылка ее в Германию была равносильна расстрелу. Об этом же меня просил начальник отдела культуры облисполкома Давыдов. Я доложил Стырне, который сказал, что не может нарушать директиву центра, приказал аннулировать ее визу и никаких исключений для нее не делать. Когда после этого немка явилась ко мне и стала просить оставить ее в Советском Союзе, я объяснил ей, что это не в моей власти, и она, как и другие иностранцы, вынуждена была выехать за пределы Советского Союза. Вот эту историю с немкой я и использовал для своей липовой версии о том, как «вербовал» меня Нарейко.)