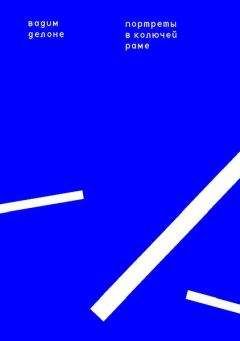Леха знал, что мне не до шуток. В то время мне лепили новый срок. Конфисковали на очередном шмоне письмо Солженицыну, в котором я на страницах 50-ти проводил сравнительное исследование общности и различия между сталинскими и брежневскими лагерями.
Приехавшее следствие трясло всю зону, пытаясь найти на меня показания. И точно раскрутили бы мне семерик, когда б не Леха, пустивший по зоне словцо, что собственными руками замочит каждого, кто даст на меня показания.
Как выяснилось, никому не захотелось купить себе досрочное освобождение ценой моей жизни, зная, что расплачиваться придется с Соловьем. Следствие поразилось, что не удалось расколоть такую обычно податливую уголовную зону, но так, ничего не добившись, и убралось восвояси.
А блатные прониклись ко мне еще большим уважением, ибо, размышляли они, всякий человек, даже мужик, свой звонок знает, а политик не знает, будет ли звонок.
Но в то смутное время следствие было еще в полном разгаре, и ни Леха, ни я не ведали, как обернутся события.
* * *
Летом 71 года кончался мой лагерный срок. Тем, кто должен был освободиться в один день со мной, выдали паспорта. Мне – нет. Многие мои соузники переживали – выпустят меня или продлят срок. Утром 25 июня я раздавал свой нехитрый лагерный скарб – книги, зарубежные открытки, бритвы, теплое белье, все, что мне сумели передать друзья, минуя надзор, все, что удалось сохранить после бесчисленных обысков. Соловей провожал меня до вахты. Бригаду его уже загоняли в рефрижератор.
Когда я явился на вахту, туда вызвали надзирателя, который в очередной раз тщательно побрил мне голову. Процедура эта могла означать только одно – новый срок. Под конвоем меня повели в штаб лагерной администрации, находящийся за зоной в 100 метрах от запретки. В комнате, где мне велено было ожидать вызова самого начальника лагпункта, сидели двое респектабельных мужчин в штатском и молча курили. Только скользнув взглядом по их непроницаемым лицам, я сразу понял – вот и опекуны из КГБ. Я подошел к окну. Автобус, который должен отвозить освобожденных в город на вокзал, еще не уехал. Это вселяло некоторую надежду. Наконец вызвали к начальнику лагеря.
– Каковы ваши убеждения? – он замялся, не зная, как ко мне обратиться – «заключенный» или «товарищ Делоне». И то и другое было как-то неуместно.
– Убеждения мои остались прежними, но я за них уже отсидел. Да и в настоящий момент этот вопрос неактуален – судя по советской прессе, в Чехословакии достигнута полная нормализация. Вы своего добились. А что до будущего, то если вы вновь задумаете кому-нибудь оказать «братскую помощь» танками, я уж, увольте, поддержку вам не гарантирую.
– Ну ладно, теперь-то вы чем намерены заниматься?
– Литературным творчеством, – безмятежно ответил я.
Полистав папку с моим делом, начальник вздохнул:
– Впрочем, и правда, здесь есть похвальные отзывы о вас известных советских писателей. Так и запишем для порядка: «Намерен заниматься литературным творчеством». Ждите здесь, есть еще некоторые формальности.
Через пять минут начальник вернулся.
– Ступайте в канцелярию за паспортом.
Когда я вышел, лиц в штатском в приемной уже не было.
Автобус с освободившимися ждал меня уже три часа. Не обращая внимания на окрики конвоя, я подошел к лагерным воротам и вскинул над головой скрещенные руки. Я знал, что зона ждет этого знака, кто-нибудь да увидит и поймет, что я на свободе.
Я медленно побрел к автобусу. Как ни покажется это многим странным, никакого чувства облегчения я не испытывал. Скорее, я ощущал горечь оттого, что не в моих силах помочь чем-то реальным моим друзьям, оставшимся на зоне. Не смогу помочь ни сейчас, ни когда их выпустят за ворота лагеря. Я знал, что никакой литературной и общественной деятельностью мне заниматься не дозволят…
* * *
Прошло полтора года. Я жил в Москве, но не у себя дома, скитался по квартирам друзей. За мной по пятам ходили то наряды милиции, то работники психдиспансеров. Я не хотел, чтоб они терзали моих родных бесконечными расспросами о том, что я делаю и с кем встречаюсь. В Москве в любом отделе кадров немедленно обращали внимание на особую отметку в паспорте – судимость. Я уезжал на раскопки в археологические экспедиции, оформлялся уже на месте в глухих местах, дабы не подводить рекомендовавших меня знакомых ученых. Все исхищрения эти нужны были, чтобы представить в милицию справку о том, что я тружусь на благо социалистической родины. Отсутствие такой справки могло незамедлительно повлечь за собой арест и год лагерей по статье о так называемом тунеядстве. В психдиспансерах, когда меня удавалось изловить, задавали мне один и тот же вопрос:
– Вы письма пишете?
– Пишу, – говорил я, – друзьям, знакомым.
– А почему же ваша подпись вот под этим заявлением, ставшим известным на Западе? – И совали мне в нос текст письма в защиту Буковского.
– Но ведь согласитесь, – пытался возразить я, – и меня, и Буковского ваша же высшая инстанция, институт имени Сербского, дважды признала вменяемыми. Следовательно, при чем здесь психиатрия?
В диспансере только качали головами: – Знаете, поведение пациента меняется. Можно и еще раз проверить.
* * *
Неожиданно пришло мне письмо: «Вадим, если ты не забыл, я освобождаюсь в октябре 1972 г. по концу срока. Будет возможность, приезжай встречать. Соловей».
Письмо это шло окольными путями. В подарок Лехе раздобыл я шерстяной свитер, не Бог весть что, не какой-нибудь там Карден, но все же норвежский, с красивым узором. Я улетел ночным рейсом в город Тюмень, чтобы успеть встретить Соловья, когда он только выйдет из ворот зоны, ведь никакого дома и родных у него не было. А выпускают закончивших свой срок сразу же после лагерного развода, это я хорошо знал. Но только сидя в самолете, я вдруг подумал – а как, собственно, найду я этот лагерь, ведь нет у меня точного адреса. Я знал, что около Тюмени, но где? В зону везли меня из пересыльной тюрьмы в воронке, потом на стройки социализма – в закрытых рефрижераторах, где уж там запоминать маршрут. Когда освобождался, так везли в специальном лагерном автобусе, и тоже было не до того, чтобы обозревать окрестности. Письма направлялись по адресу: «г. Тюмень, ИТУ-2», то есть исправительно-трудовое учреждение, секретный объект. Родным, когда они ехали на свидание со мной в лагерь, адрес конфиденциально сообщали в каком-то высоком учреждении Министерства внутренних дел. Но перед тем как лететь в Тюмень, я не подумал об этом. Какая-то нелепица получается – сидел, сидел три года и сам даже не знаешь толком, где.
В некоторой задумчивости я вышел из ворот тюменского аэропорта. В белом месиве колкого снега вдруг всплыл зеленый огонек такси.