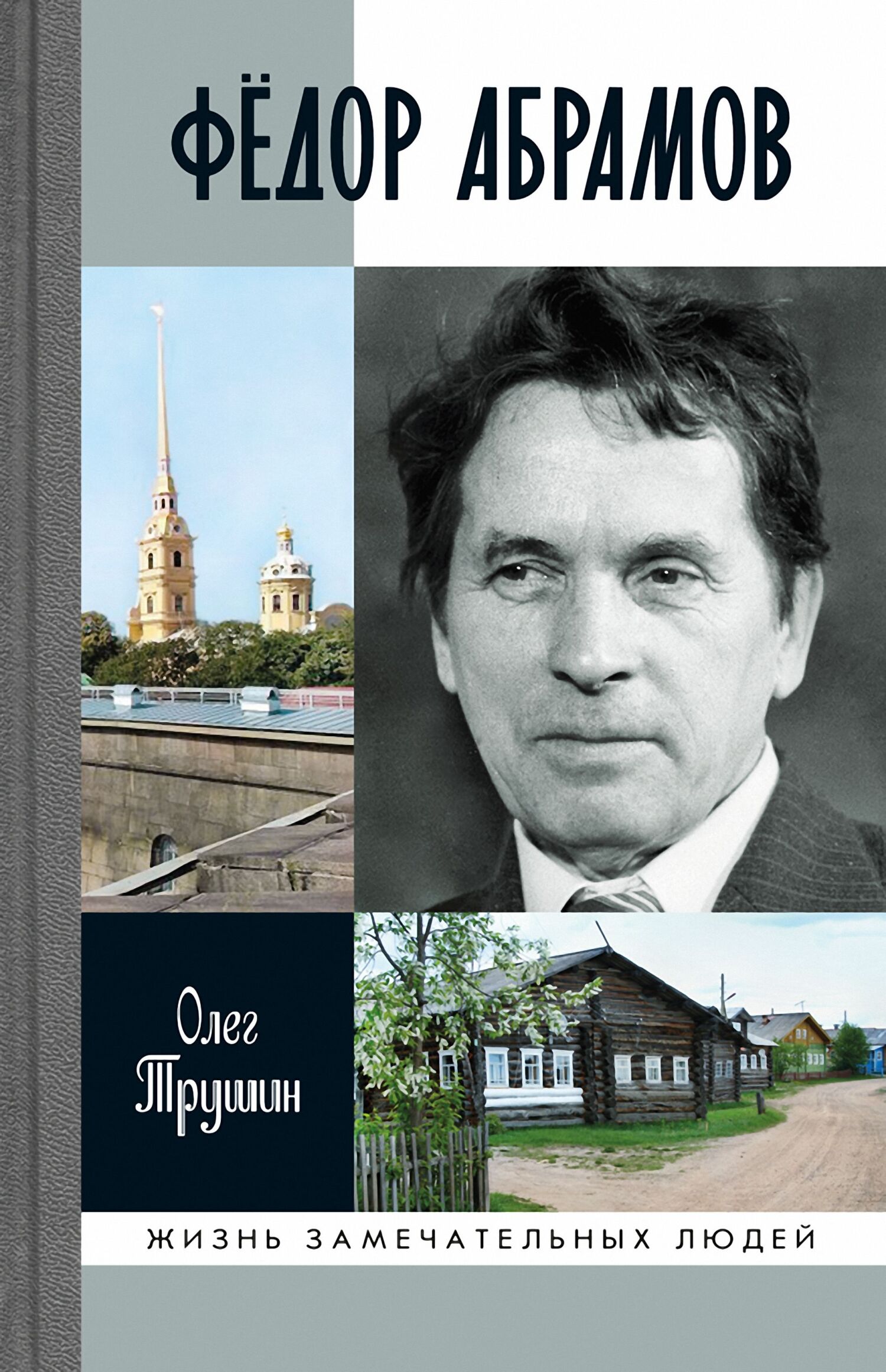Так и окончила свои дни Пелагея в одиночестве, схоронив мужа, упустив в город дочь, что даже и на похоронах матери не была и приехала лишь неделю спустя, но тем не менее «оплакала дорогих родителей, справила по ним поминки – небывалые, неслыханные по здешним местам». И всё же не осталась на родительском корню и, распродав всё, нажитое матерью, «заколотила дом на задворках, возложила прощальные венки» на могилы и уехала.
Вроде бы и состоявшееся примирение поколений звучит в финале повести, а всё-таки Алька не принимает деревню в том виде, в котором она есть, пожертвовав даже отчим домом. По сути, в «Пелагее» звучит всё та же избитая проблема отцов и детей, к которой не единожды обращалась как отечественная, так и мировая литература, но представленная Фёдором Абрамовым несколько иначе, не только через призму межличностных отношений, но и сквозь борьбу деревни и города, проявившуюся в нежелании молодого поколения взваливать на свои плечи крестьянский труд на земле. Тут и социальная проблема нравственного долга, и мораль молодого поколения, выдернутая автором из простой деревенской жизни вопреки бытовавшему в стране стандарту соцреализма, выступают на первый план. Сюжет повести продиктован жизнью, а значит, Пелагея в своей нелёгкой судьбе не одинока.
Как и все произведения Фёдора Абрамова, в которых отражены образы реально существовавших людей, «Пелагея» не исключение. Прототипом Пелагеи Амосовой стала Екатерина Макаровна Абрамова, жившая в Верколе и до последних своих дней отказывавшаяся принимать главную героиню повести, примеряя к себе каждый штрих Пелагеи и не желая понимать, что она стала лишь внешней оболочкой для образа, а его начинка – во многом художественный вымысел, но взятый автором из жизни. Абрамов при случае старался объяснить, но его реальная Макариха и слушать об этом не хотела.
И всё же Пелагея во многом впитала в себя не только личностные черты веркольской Макарихи, но и истинный антураж её трудовых будней, её пекарню, без которой, если сказать словами самой Пелагеи, «ей и дышать нечем». А реалистичность образа Пелагеи позволила автору не только оживить повесть, но и наполнить её особым знаковым колоритом, создав тем самым ещё большую атмосферу подлинности событий.
«Пелагея», встав в один ряд с повестью «Алька», ставшей фактически её продолжением, рассказом «Деревянные кони» и повестью «Мамониха», работа над которой растянулась без малого на десять лет, стала зачином своеобразной тетралогии абрамовских произведений, пусть и не объединённых единым сюжетом, но имеющих один замысел – рассказать о судьбе русской женщины. И ведь недаром Юрий Петрович Любимов, затевая в начале 1970-х годов на «Таганке» постановку своих знаменитых «Деревянных коней», принял в сценарий и «Пелагею» с «Алькой», сотворив тем самым своеобразный триптих, который великолепно смотрелся на сцене как единое целое.
Почти сразу же после публикации «Пелагеи» в печати появились статьи с негативными отзывами. Такой, к примеру, была обличительная публикация Антонины Васильевны Русаковой «Итог одной жизни», опубликованная в «Ленинградской правде» 10 января 1970 года и носящая явно заказной характер «сверху».
18 августа писатель Ефим Яковлевич Дорош, работавший в «Новом мире» и читавший «Пелагею», хорошо понимая состояние Абрамова после взвалившейся на него критики, успокаивая, в частности писал:
«Дорогой Фёдор Александрович!
…Уже само название рассказа расположило меня, и я не ошибся в своих ожиданиях. По-моему, рассказ очень хорош.
Прежде всего хороша старуха, очень верно и интересно написана и молодая. Да и всё вокруг – “настоящее и прошлое” – верно, умно, наполнено поэзии…
“Пелагею” все вокруг очень хвалят, а “Литгазета” и прочие – бог с ним…
Ваш Е. Дорош».
Спустя некоторое время критик Игорь Александрович Дедков в статье «Межа Пелагеи Амосовой», опубликованной в «Новом мире» № 9 за 1972 год, так отозвался о повести:
«Есть у Фёдора Абрамова восхищение “по-русски неброской, даже застенчивой” красотой, “сделанной топором и ножом”. Книга написана человеком, жадным до людей, до всё новых и новых людей, до самых обыкновенных. Если б признан был жанр житейских “встреч”, то можно было бы сказать, что значительная часть книги исполнена в нём».
И как долгое эхо дедковской статьи – мысль литературоведа Андрея Туркова в статье «Великий след» в журнале «Дружба народов» № 2 за 1973 год: «Но всё-таки источник заветнейших мыслей Фёдора Абрамова, в первую очередь, не в литературе, а в жизни… а это есть голос нрава…»
И если статьи в прессе появились, выдержав определённый, пусть и малый срок после выхода «Пелагеи», то читательские письма обрушились на Фёдора Абрамова почти сразу же, как только повесть получила выход в народ. Такие письма приходили не только на ленинградский адрес писателя, но и в редакцию «Нового мира». Как и статьи, по своему содержанию они были разными. Помимо добрых отзывов были и упрекающие Абрамова за ненужное обличительство и нравоучение, которого и без того с лихвой в литературе.
Одним из первых откликнулся на «Пелагею» Василий Белов.
Вообще письма Василия Ивановича Абрамову, а их в писательском архиве немало, всегда искренни, по-дружески совестливы, без потаённой зависти в слове, тёплые и, как говаривала моя бабушка, хоть руки о них грей. Белов всегда считал Абрамова своей путеводной звездой, строгим критиком и порой публично, по-отечески, признавался в этом. Но и в своей оценке абрамовских творений Белов был честен и прямолинеен.
«…Да, “Пелагею” я прочитал, – сообщал Белов, – и скажу честно, что она оставила очень противоречивое впечатление. Те места, где ты писал жалея, а не обличал, эти места, по-моему, изумительны. А этих мест меньше, и они не увязываются с общим пафосом, с общим настроем (извини за эту надуманность, не знаю, как сказать проще). Чего это ты? Разве мало у русского мужика обличителей без тебя? Ну да ладно, ты наверняка это и сам чувствуешь и знаешь всё лучше меня. Не стоило только, наверное, печатать повесть в “Н. мире”, там, по-моему, есть силы определённые, эти самые обличительские, оправдывающие беды народа его собственной тупостью и далёкостью и всякой классовостью. Твардовскому наверняка приходится сдерживать этот обличительский пыл, и, по-моему, ему нелегко вдвойне. Не знаю, конечно, но мне так кажется.
Хорошо, что на роман есть статьи (тут, по всей видимости, Белов имел в виду роман «Две зимы и три лета». – О. Т.)… А как ты к этим статьям? Ишь ты, нашли козла отпущения – Егоршу… А, по-моему, мне неизвестно, такой ли уж отрицательный этот Егорша. А может, это просто способ спасти роман от нападок со стороны ортодоксов. Ладно, пятого ноября всё узнаем. Вот когда получишь звезду, тогда я попрошу рублей триста взаймы. А может, и раньше… потому что за “Бухтины” мне дадут всего рублей