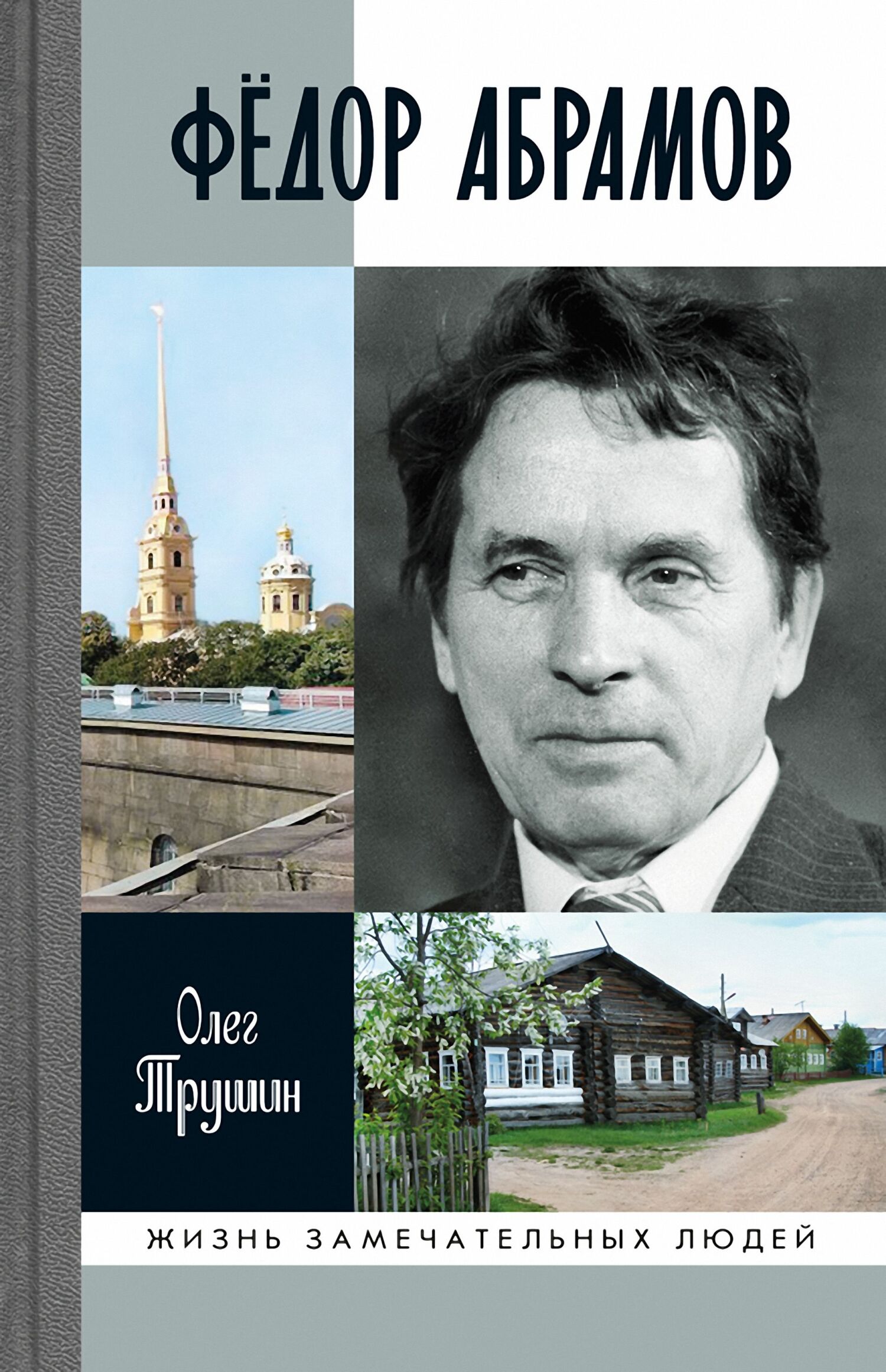400… Ну ладно, это всё ерунда.
А что за “Деревянные кони”? Начал только или уже много сделал? Черкни. Передай поклон Люсе и Фёдору (Мельникову. – О. Т.). Пусть он, Фёдор Фёдорович, как следует прочихается на прежнюю должность, да живёт нормально. Живы будем не помрём. Привет от Олюхи и от мамы, которая засела в Тимонихе и не хочет ехать в Вологду. Уж больно там ей хорошо – есть дрова и мука, родина, товарки, тишина и лес. Кормила меня блинами и рыжиками. Жаль, не смог ты с Люсей приехать.
Пока! Крепко обнимаю, не забывай.
Твой Белов».
10 октября 1969 года Абрамов после прочтения беловского письма, явно переваривая прочитанное, несколько нервозно запишет в своём дневнике:
«Получил письмо от Белова. Упрекает за обличительство в “Пелагее”. Дескать, и без тебя хватает у нас обличителей.
Но где, какое обличительство в “Пелагее”? Я никогда в жизни своей не занимался этим ненужным делом. И вообще я не знаю, что такое восхваление и обличениее. Я стараюсь писать то, что есть. Правда, правда и ещё раз правда. А в “Пелагее” если и есть обличительство, то разве оно против Пелагеи направлено? И вообще, как не понять, что Пелагея – жертва, жертва, которую нельзя не пожалеть».
А вот писатель Алексей Александрович Садовский в письме Абрамову от 26 сентября 1968 года не просто подверг критике повесть, усмотрев в ней «провинциализм», но и даже определил, какую она, по его мнению, должна была иметь концовку:
«Язык повести рыхловат. Порой колорит оборачивается обыкновенным провинциализмом. А порой и недостатки замечаешь…
Но на одном эпизоде мне хотелось бы, всё-таки, попридержать твоё внимание. Я имею в виду конец 21-й и начало 22-й глав. Думается, их надо изменить несколько. В конце первой из этих глав ты рассказываешь, как умирающую Пелагею согревает надежда, что дочь её, Алька её, вернётся. Вот этим (так я думаю) и надо закончить главу, а следующую 22-ю начать энергично, просто: “Вернулась Алька”. Или чем-нибудь в этом роде».
Конечно, Садовский не знал, что у «Пелагеи» есть продолжение – «Алька». Не упомянул об этом в ответном письме и Абрамов.
Сам же Александр Твардовский, успевший опубликовать повесть в журнале, не оставил отзыва о ней. По крайней мере нам такие рецензии неизвестны.
А вот Мария Илларионовна, супруга поэта, уже после его кончины прочитав «Пелагею» и «Альку» в сборнике «Последняя охота», изданном в «Советской России» в 1973 году, открыто признавалась в письме Абрамову:
«Дорогой Фёдор Абрамович! (так в оригинале. – О. Т.)
Хочу напомнить о добром намерении Вашем – прислать копии писем Александра Трифоновича. Жду. (Абрамов выполнил просьбу, отправив подлинники писем. – О. Т.)
Симпатичную книжечку Вашу с одним (“деревянным конём”) получила и за неё Вас благодарю.
Думаю, что после наших столичных газет, недавно обсуждавших (я имею в виду “Л. Г.”) Ваше творчество и особо повесть об Альке, мой читательский отклик покажется Вам пресным уже в силу того, что не несёт в себе заряда гласности и должной ответственности, это просто два слова читателя о том, что ему (читателю) понравилось.
Понравилась, конечно, “Пелагея”. Эта Ваша вещь поживёт. Большой подтекст (не выпирающий, но чувствующийся, который в любую минуту может быть призван для аргументации образа) – подтекст этот придаёт книге (и образу Пелагеи в первую очередь) объёмность, книга имеет и большую протяжённость, чем собственно текст, занимающий менее сотни страниц.
Судьба этой женщины заставляет читателя задуматься, как задумывались мы о героине Флобера, о пушкинской Татьяне, о Вассе Железновой.
– А что, если бы?
Извечный вопрос, вызванный сопереживанием читателя и его заинтересованностью в судьбе образа, нарисованного правдиво, т. е. со всеми жизненными противоречиями.
– А что, если бы Пелагея? Кем могла бы быть такая идущая к своей цели без компромиссов натура, для которой потеря цели явилась и потерей жизни?
Повесть, повторяю, хорошая, очень хороша, написана хорошим языком, без сентиментальностей (которые в других рассказах иногда мелькают).
Другие вещи Ваши послабее. Конечно, ничего в них стыдного нет. Они тоже обнаруживают талантливость автора. Они послабее перед “Пелагеей”, но не стоит объяснять, что только зубья в гребне одной высоты.
И хотя в других рассказах тоже много хорошего и много наблюдённого у жизни, есть ощущение некоторой этнографичности в подаче людей старинных, против параллельно идущего описания людей сегодняшних, – такие описания грешат всегда некоторой искушённостью и идеализацией.
Само заранее помеченное противопоставление предопределяет ослабленность и некую ущербность одной из противостоящих сторон.
Мне кажется, что материал такого рода (о прошлом и его людях) лучше втаптывать в большие вещи, где он на фоне раскрытых характеров “большого полотна” может говорить сам за себя без тенденциозности, которая, повторно, заранее обрекает половину героев на “голубые” роли.
Словом, как заключил бы наш дорогой А. Т., обобщая самого себя: человек Вы талантливейший и талант Ваш от Бога, а всё остальное – от себя.
Работать, работать.
Всего Вам доброго, и успешной работы более всего.
М. И. Твардовская…»
Несколько забежав вперёд во временном отрезке в биографии Фёдора Абрамова, давайте снова вернёмся в конец декабря 1969 года, когда для него все споры о «Пелагее», разом померкнув, отступили далеко на задний план – 22 декабря умер Василий – средний и последний из братьев Фёдора Александровича, живший в селе Подюга Архангельской области и работавший там же директором сельской школы. Сгорел на работе, как потом говорили. В последний день своей жизни провёл уроки, дошёл до дому, повернулся к окну и… инфаркт, в 55 лет.
Роковые 55! Жизненный рубеж, который не осилил ни один из старших братьев Фёдора Абрамова. Как мы помним, брат Михаил тоже умер именно в этом возрасте.
Фёдор Абрамов подспудно ощущал это как недобрый знак. Последующие пять лет, приближающие его к этой жизненной черте, – постоянные размышления, невольные думы о скорой смерти. Нечасто говорил он об этом вслух, но близкие подтверждают, что такие разговоры были.
А в Ленинграде споры вокруг «Пелагеи» ещё долго не умолкали, и критика, взяв в приоритет статью Антонины Русаковой, резала вдоль и поперёк абрамовскую повесть, не обращая внимания на положительные отклики в прессе.
Но случилось то, о чём Фёдор Абрамов не мог и подумать: в его защиту, в защиту его «Пелагеи» выступили ленинградские писатели, вызвав огонь критики на себя.
Ещё 22 октября 1969 года на заседании бюро секции прозы Ленинградского писательского отделения выступавшие единодушно говорили о «Пелагее» как об интересном, значительном явлении современной прозы. Ряд ленинградских писателей – Михаил Слонимский, Ефим Добин, Адриан Македонов, Борис Бурсов, Наум Берковский, Глеб Горышин, который к тому же являлся председателем бюро секции прозы, – 28 января 1970 года подписали и направили в газету «Ленинградская правда» открытое письмо, в котором опровергли позицию автора «Итога