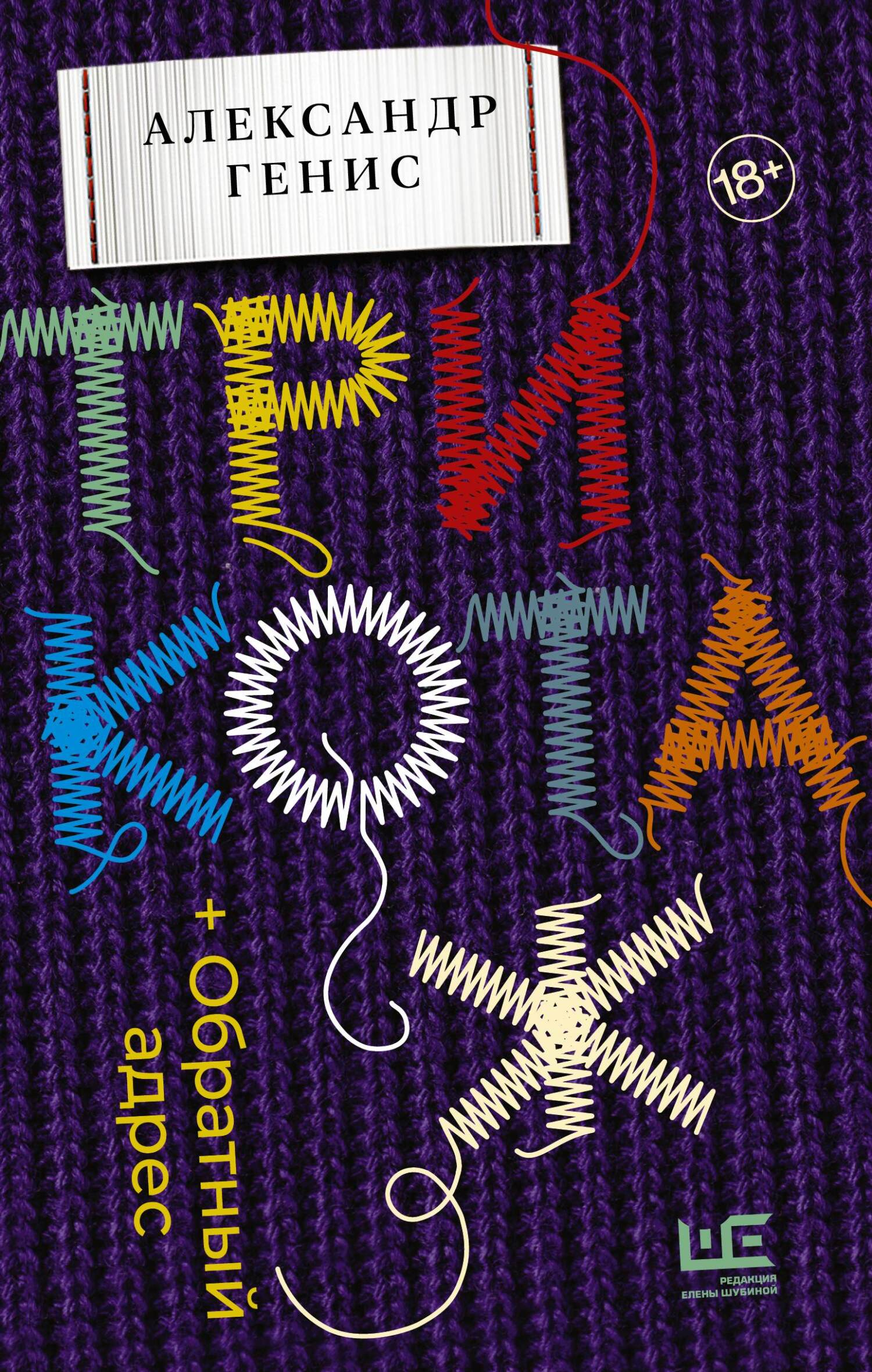касс, в сущности, таких же, какими пользовался первопечатник Иван Фёдоров. Гордясь усвоенным, я не мог отмыть руки от въедливой краски даже тогда, когда типография сгорела. На суде выяснилось, что ее поджег мой предшественник, ровесник и тезка, из-за неудовлетворенного авторского самолюбия: Седых его не печатал.
Пожар, как это с ним бывает, способствовал украшению газеты, принудив редакцию – первую в Нью-Йорке – к прогрессу. Линотипы сдали в лом, на смену им пришли компьютеры, и сама профессия метранпажа вымерла как раз тогда, когда я ею овладел. Всё, что у меня от нее осталось, – обгоревшее шило.
2
Прижившись в “Новом русском слове”, я наконец сумел поближе познакомиться с чужой страной – Россией. Ее представляли люди прежнего времени, помнившие Гражданскую. Остальные войны были несчастьем, та – катастрофой не меньше потопа. Но чаще они ссылались не на библейскую, а на византийскую историю. Большевики у них считались вроде турок, мы – тоже.
– Утратив язык и память, – объяснил мне заведующий новостями Абрам Соломонович Геренрот, – новое население России к старому не имело никакого отношения, кроме географии: как Стамбул и Константинополь. Не сумев распорядиться великим наследством, победившие варвары ввели коней в храмы, Ленина – в Кремль и, прощаясь, принялись говорить друг другу “пока”, за что убить мало.
Всю современную литературу старая эмиграция считала нечленораздельной, в первую очередь Бродского. Отечественная словесность, верили они, испустила дух вместе с Буниным, портреты которого висели всюду, кроме кабинета Седых, где его заменяла забранная стеклом вырезка из стокгольмской газеты. Порыжевшая фотография запечатлела шведского короля, вручавшего Нобелевскую премию мрачному русскому джентльмену. Рядом стоял жовиальный Яков Моисеевич, уже тогда напоминавший Абажа, только молодого.
– Куда бы он без меня делся, – сказал Седых, – из иностранных слов Бунин знал только “мерси” и всю жизнь боялся ажанов.
Признав во мне смышленого и любознательного варвара, Яков Моисеевич при каждой встрече делился воспоминаниями.
По утрам я приносил ему план свежего выпуска. В нем не было ничего хитрого: газету исчерпывали четыре страницы. На первой шли новости, простосердечно украденные из “Нью-Йорк Таймс” и переведенные на монастырский русский с английским акцентом. Военные самолеты назывались “бомбовозами”, паром – “ферри”, Техас – “Тексасом”, политбюро – кремлевскими старцами. Вторую полосу закрывала критическая статья о советских безобразиях. Иногда она называлась “Как торгуем, так воруем”, иногда – “Как воруем, так торгуем”. Третья полоса вмещала фельетон в старинном смысле, то есть пространное эссе на необязательную тему, которое не читал никто, кроме линотипистов. Четвертая страница радовала кроссвордом, именуемым здесь “Крестословицей”. Все остальное газетное пространство занимали объявления. На первой полосе шли извещения о смерти, на последней – реклама кладбищенских услуг.
В православные праздники из года в год печатались одни и те же материалы. Старенькие читатели, включая насельниц парагвайской богадельни, бесплатно получавшие прочитанные номера, за год всё забывали и радовались умилительным пасхальным стихам и рождественским очеркам, как в первый раз. По вторникам “НРС” запускало Большую Берту – статьи самого Андрея Седых. Эмигранты читали их вслух, пересказывая особо гневные абзацы соседям. Яков Моисеевич громил совдепию, разоблачал происки почты, поднимавшей расценки на рассылку газеты, и давал советы очередному президенту. Мне у него нравились только некрологи. По-детски радуясь, что умер не он, Седых становился шаловливым. Таким же он был каждое утро, когда, предоставив мне компоновку очередного номера, устраивал получасовой спиритический сеанс.
– Любите Шерлока Холмса? – заводил он разговор.
– Кто ж не любит?!
– Как кто, Конан Дойл! Он мне часто жаловался, что из-за этого проклятого сыщика не ценят его исторические романы. А “Трое в одной лодке” знаете?
– Наизусть.
– Да, Джером превосходно читал свою прозу, мы с женой так смеялись. Приходилось видеть, как Жозефина Бейкер танцевала?
– Где мне.
– Много потеряли. Я у нее в Париже интервью брал, так она меня в номере встретила в одних туфлях с перьями.
Другим моим кумиром стал эсер Мартьянов, чей книжный магазин делил подвал с типографией. Организатор заговора, он всю жизнь гордился тем, что стрелял в Ленина, и убивался из-за того, что не попал. Каждую свободную минуту я рылся в его лавке древностей, забитой осевшими за полвека изгнания книжками. Среди них совсем не было знакомых. В одной я прочел, что на месте Атлантиды располагался континент Му, другая называлась “Гоголь в КГБ”.
Мартьянов верил в мистику предопределения, считая, что все, кроме его судьбоносного промаха, происходит не случайно. В этом его убедил коллега-ассасин Борис Коверда, застреливший организатора убийства царской семьи большевика Войкова. Отбывая десятилетний срок в польской тюрьме, Коверда черенком ложки нацарапал на штукатурке две фамилии: сверху – жертвы, снизу – свою. Потом разделил их вертикальной чертой – и стена возопила, как на пиру Валтасара:
3
Мы с Вайлем попали в “НРС” независимо друг от друга и по-разному: я – снизу, он – сверху. В газету Петю взяли за талант и внешность. Моя борода росла клином, его – лопатой. Поседев с годами, он выглядел Дедом Морозом или, как заметил режиссер Герман, честным русским дворником. В молодости, однако, Вайль больше напоминал дьяка. Поскольку в редакции он меньше других походил на еврея, Пете поручили хронику светской жизни. Он посещал и описывал благотворительные базары, пельмени донских институток, блины на широкую масленицу и другие православные посиделки. Вайль даже был на обеде в честь приобщения к лику святых блаженной Ксении Петербургской.
– Борщ подали холодным, – жаловался он, – говядину – сырой.
В остальное время Петя скучал так отчаянно, что однажды, заснув за письменным столом, чуть не выбил себе глаз, наткнувшись лицом на зажатую в кулаке шариковую ручку. Хотя он считался белым воротничком, а я ходил чумазым, Петя мне завидовал и часто спускался в типографию помогать и сплетничать.
Впрочем, мы и так почти не расставались, поселившись по соседству, на северной оконечности Манхэттена. Нас разделяли пятнадцать минут ходьбы или одна остановка сабвея. По утрам мы встречались в третьем вагоне, доезжали до газеты и трижды обходили квартал, набираясь свежего воздуха, прежде чем погрузиться в затхлую атмосферу нашей старорежимной редакции.
– Это все равно, – жаловались мы, – что жить в музее восковых фигур, в который нас не звали.
Седых категорически не верил в разумную жизнь за железным занавесом. Отчасти его можно было понять. Когда Вайль, желая помочь новой эмигрантской словесности, объявил в своей хронике о том, что в эзотерическом журнале “Гнозис” печатается глава “Буптый брак” из романа “Калалацы”, Якову Моисеевичу стало дурно.
Избегая перемен и уж точно не желая к ним