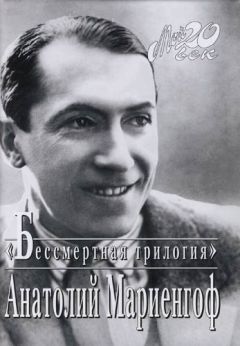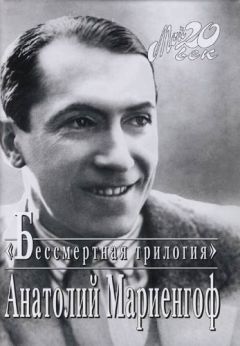— Ты читала, Нюша, о последних минутах поэта Хомякова?
— Нет.
— Он лежал на постели, вытянувшийся, сосредоточенный. В спальню входит его сосед по имению и спрашивает: «Алексей Степанович, что с вами?» — «Да ничего особенного… приходится умирать», — спокойно отвечает Хомяков.
— Русская смерть, Толя.
— Пожалуй. Но много ли русских умирает этой русской смертью?
Вдруг четыре звонка.
— К нам, Нюша.
— Да нет. Кто-то обсчитался, нажимая кнопку.
И опять четыре взонка.
Я иду отпирать.
— Саррушка…
Лебедева будто не замечает моего удивления.
— Я, ребята, пришла к вам встречать Новый год, — говорит она совсем просто и слегка в нос. — А где Нюшка?
— Там.
— Здорова?
— Да.
— Очень хорошо.
И легонько, неторопливо шагает по коридору, носками врозь и чуть по-спортивному переваливаясь с боку на бок.
Через пятнадцать лет в поэме военного времени я уже писал иначе:
«Ну, по домам!…»
И Сарра встала.
Идет походкою Второй Екатерины.
И совсем по Ийому пришлось бы писать об этом в 1960 году, когда эта «царь-баба», эта «погибель мужского рода» передвигается по ровным московским тротуарам, опираясь на крепкую палку с резиновым наконечником.
Бабушка у Лебедевой казацкого донского рода. Она не знала грамоты и была ярой антисемиткой. А отец был тонким интеллигентом. В назидание своей мамаше он и назвал дочку Саррой. В православных святцах имеется это имя. В переводе на русский — «знатная».
— Здравствуй, Нюшенька.
— Здравствуй, Саррушка.
Поцеловавшись, Лебедева ставит на стол новогоднюю бутылку шампанского, не оскорбительного для нас, потому что Саррушка — наш друг. Она по-хорошему любит поэзию, любит стихи Есенина. Его смерть для нее не просто смерть знакомого человека, которого читающая Россия знает как знаменитого поэта, а Европа и Америка — как молодого мужа Айседоры Дункан.
Ровно в двенадцать мы чокнулись, но не сказали друг другу: «С новым счастьем»…
А потом часов до пяти:
— Вы помните, Нюша…
— Вы помните, Саррушка…
— Вы помните, Толя…
— Вы помните…
— Вы помните…
Покойный Сергей Есенин этот Новый год встречал с нами в своем Богословском переулке, где и в самом деле — каждая собака знала его легкую походку.
Сотни людей спрашивали меня: «Почему он сделал это?» В конце концов я сказал себе: «По-видимому, я должен ответить. Во всяком случае, попытаться ответить».
И вот пытаюсь.
Есенин мог потерять и терял все. Последнего друга, и любимую женщину, и шапку с головы, и голову в винном угаре — только не стихи!
Стихи были биением его сердца, его дыханием.
Вспомните, сколько считанных минут он жил после того, как написал кровью свои последние строчки:
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без слова.
Не грусти и не печаль бровей.
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
Он написал это стихотворение неторопливо, своим обычным округлым почерком, заставляя жить отдельно, словно по-холостяцки, каждую букву.
Ему пришлось обмакнуть ржавое гостиничное перо в собственную кровь. В этом не было ни дурной позы, ни дешевой мелодрамы. Просто-напросто горькая необходимость: в многочисленных карманах пиджака, как на грех, не оказалось карандаша, а в стеклянной чернильнице высохли чернила, как это обычно бывает в перворазрядных отелях.
Где-то, когда-то мне довелось прочесть биографию шотландской принцессы XV века. Если память не изменяет, ее звали Маргаритой.
Умирая, принцесса сказала:
— Плевать на жизнь!
Ей было девятнадцать лет.
Никто не слышал последних слов Есенина. Да и вряд ли в унылом номере петербургской гостиницы «Англетер» в последнюю минуту он разговаривал сам с собой. Этой дурной театральной привычки я никогда не замечал за ним. Но с 1923 года, то есть после возвращения из свадебного заграничного путешествия, весь смысл его существования был тот же, что и у шотландской принцессы:
— Плевать на жизнь!
В начале 20-х годов как-то в «Стойло Пегаса» пришли три девушки. Совсем юные.
У хорошенькой, глазастой Гали Бениславской тогда еще были косы — галочьего цвета. Длинные, пушистые, с небольшими бантиками. Крепенькие ноги в черных хромовых башмаках с пуговицами.
Мы говорили: «Пришла Галя в мальчиковых башмаках». Или: «Пришла Галя в бабушкиных чулочках!»
Они были в крупную вязку, теплые, толстые и тоже черные.
Двух других девушек мы ласково называли «мордоворотиками».
После возвращения Есенина из Америки Галя стала для него самым близким человеком: возлюбленной, другом, нянькой. Нянькой в самом высоком, благородном и красивом смысле этого слова, почти для каждого из нас дорогого по далекому детству, а в войну взрослые, измученные люди переделали няню в «нянечку».
Я, пожалуй, не встречал в жизни большего, чем у Гали, самопожертвования, большей преданности, небрезгливости и, конечно, любви.
Она отдала Есенину всю себя, ничего для себя не требуя. И уж если говорить правду — не получая.
Хочется привести несколько кусочков из писем Есенина:
Галя, милая.
Простите за все неуклюжества.
8/IX — 23
Галя, милая!
Простите, что обманул.
Дня я еще не видел. Какой он есть.
Думаю, что не смогу поехать с вами.
Немного разбит настроением физически.
(Без даты)
Галя, милая! Я очень люблю Вас и очень дорожу Вами. Дорожу Вами очень, поэтому не поймите отъезд мой как что-нибудь направленное в сторону друзей от безразличия. Галя, милая! Повторяю Вам, что Вы очень и очень мне дороги. Да и сами Вы знаете, что без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного…
Привет Вам и любовь моя!
Правда, это гораздо лучше и больше, чем чувствую к женщинам.
15 апреля 1924
О печатании собрания:
… издайте по берлинскому тому… нервных вздрагиваний. Вдруг помрешь
Этого собрания я желаю до — сделают все не так, как надо.
29 октября 1924
Галя, голубушка!… может быть, в мире все мираж, и мы только кажемся друг другу.
Ради Бога, не будьте миражем Вы. Это моя последняя ставка и самая глубокая.
20 декабря 1924