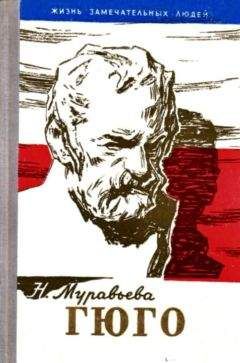Гюго, как и на Джерси, совершает долгие прогулки по берегу. Знакомится с местными рыбаками, подолгу беседует с ними. Дыхание океана настраивает на эпический лад. В эпических сказаниях и легендах народов мира их вековая борьба олицетворена в образах героев. Это поэтическая история. Гюго тоже хочет отдать ей дань — создать обширный цикл поэм из истории человечества. И этот замысел начинает претворяться в жизнь.
Все многоструннее становится его лира. Рокочет медная струна «Возмездия», поют, звенят, стонут элегические струны «Созерцаний», и вот теперь зазвучали торжественные эпические лады поэм.
Лирический сборник «Созерцания» готов к печати. Книга эта не имеет такого политического звучания, как «Возмездие», поэтому ее не боится принять и парижский издатель Паньер. Одновременно книга издается в Брюсселе у Этцеля.
Тщательно, придирчиво, яростно, неустанно работает Гюго над корректурами. Его поверенные и помощники — Поль Мерис в Париже и Ноэль Парфэ в Брюсселе — изнемогли, выполняя бесконечные требования и указания автора. Каждая строка должна сверкать подобно алмазу! Он не скупится на обширные письма, спорит, доказывает, дает подробнейшие объяснения по поводу отдельных слов, грамматических оборотов, датировки, мельчайших деталей верстки, набора.
Весной 1856 года сборник «Созерцания» вышел в свет. Тираж разошелся чрезвычайно быстро. Сразу же следует думать о дополнительном издании. Успех большой — и у широкой публики и у литераторов. В первую часть сборника, посвященную прошлому, вошли многие стихи, написанные еще в 30-е и 40-е годы. У поэта, в его сундуках, всегда есть большой запас неизданных рукописей, и среди них немало поэтических перлов. Вошел в «Созерцания» и цикл стихов на смерть дочери, он отличается особенной задушевностью.
На гонорар, полученный за сборник, Гюго купил у хозяина тот самый дом, в котором они поселились. Дом называется Отвиль-хауз. Местные мастера — плотники и столяры принялись за перестройку его по планам и рисункам нового хозяина. На следующий год Гюго ждет в гости друзей из Парижа. Он хочет видеть их, говорить с ними, уже столько лет ему приходится довольствоваться письмами.
* * *
Письма к нему летят со всех концов Европы. Писатели, историки, поэты, политики присылают Гюго на Гернсей свои новые книги, делятся с ним планами, сообщают последние новости.
Историк Мишле написал обширный труд о религиозных войнах — необходимо прочитать и отозваться. Эжен Сю из романиста превратился в историка-публициста, Гюго горячо аплодирует его новой книге.
Ламартин от поэзии перешел к прозе. Гюго просматривает довольно объемистые выпуски его «Курса литературы».
Некоторые страницы тревожат, вызывают недоумение и отпор. Не об авторе ли «Возмездия» так неприязненно отозвался Ламартин в одной из своих «бесед», не называя его по имени? Гюго просит объяснений.
Да. Их пути решительно разошлись. Певцу примирения враждебен дух возмездия. Но не все французские писатели примирились. Лучшие из них сопротивляются.
Гюстав Флобер прислал старшему собрату на отзыв новый роман «Госпожа Бовари». Гюго давно знаком с Флобером, много раз встречался с ним в литературных салонах Парижа. Высокий человек с неспешными движениями, с проницательным взглядом грустных глаз. Замечания его всегда отличаются тонкостью и многозначительностью. Он ненавидит фальшь, пошлость, браваду.
Роман «Госпожа Бовари» строится на пристальном анализе обыденной жизни, обыденных чувств.
По творческой манере Флобер далек от Гюго. Он чуждается публицистики, прямых вторжений автора в повествование, стремится быть предельно объективным. Факты говорят сами за себя. И все же позиция писателя ясна. Его книга — обвинение миру пошлости, растлевающему живые чувства, принижающему человеческое в человеке.
Гюго узнал о том, что Флобера травят во Франции за его роман. Власти привлекли писателя к суду исправительной полиции за «оскорбление религии и нравственности».
«Вы принадлежите к тем горным вершинам, которые сотрясаются всеми ветрами, но которые ничто не в силах сокрушить. Всем сердцем с вами», — пишет Флоберу Гюго.'
Литературные вкусы и взгляды Виктора Гюго широки. Он вовсе не требует, чтобы все были романтиками, писали в одной какой-то манере. Он всегда восхищался и теми писателями, которые далеки от него по стилю и приемам, если их книги действительно несут в себе новое, значительное, если они талантливы и служат делу прогресса.
30 августа 1857 года Гюго снова обращается к автору «Госпожи Бовари»: «Вы написали превосходную книгу, сударь, и я счастлив сказать вам это. Мы связаны с вами некими особыми узами, и это как бы приобщает меня к вашим успехам… „Госпожа Бовари“ — это подлинное произведение искусства… Вы, сударь, один из передовых умов своего поколения. Продолжайте же высоко нести перед ним факел искусства. Я томлюсь во мраке, но я люблю свет. А это значит, что я люблю вас».
Гюго оценил и талант Шарля Бодлера, тотчас же отозвавшись на присланную ему автором книгу «Цветы зла».
«Я получил ваше благородное письмо и вашу прекрасную книгу, — писал Гюго Бодлеру 30 апреля 1857 года. — Искусство подобно небесному своду, оно не знает границ, — вы только что доказали это. „Цветы зла“ горят на нем — подобно звездам — они ослепляют. От всей души приветствую ваш смелый ум. Позвольте мне закончить эти короткие строки поздравлением. Вы только что удостоились одной из редких наград, которая может выпасть на чью-либо долю при современном режиме. Их так называемое правосудие обвинило вас в нарушении того, что они называют своей моралью, тем самым оно увенчало вас лавровым венком. Жму вашу руку, поэт».
Признавая мастерство и значительность поэзии Бодлера, Гюго, однако, не согласен с тем пониманием искусства, которое проповедуют Бодлер и его единомышленники во главе с Теофилем Готье.
Разнообразие стилей, различие методов борьбы, но не уход от борьбы. Этого Гюго не приемлет. Через два года после горячего отзыва о «Цветах зла» гернсейский изгнанник снова пишет Бодлеру: «Ваша статья о Теофиле Готье — одна из тех статей, которые властно будят мысль. Уметь заставлять думать — это редкая способность, это дар избранных. Вы не ошиблись предчувствуя, что между нами должны возникнуть… разногласия. Я понимаю вашу философию (ибо, как и всякий поэт, вы и философ), больше того, я готов признать ее. Но у меня своя философия. Я никогда не говорил: „искусство для искусства“, я всегда провозглашал: „искусство для прогресса“… Что делаете вы сами, когда пишете поразительные стихи, подобные „Семи старцам“ и „Старушкам“, которые вы посвятили мне и за которые я благодарю вас? Вы движетесь вперед. Вы обогащаете небесный свод искусства каким-то новым, мертвенно-бледным лучом. Вы вызываете еще не испытанное содрогание.