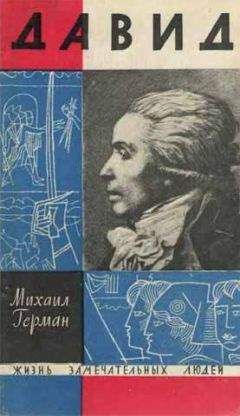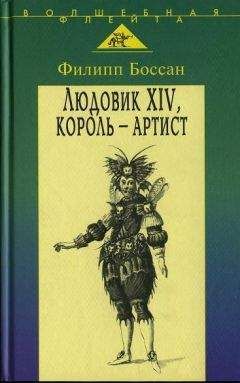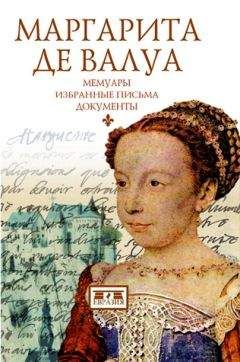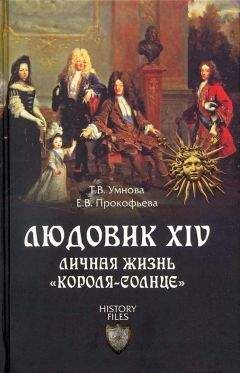Медленно удалялся он от старой якобинской церкви, шагал тяжело, низко опустив голову, словно разглядывая камни мостовой. Шел дорогой, уже выученной наизусть, знакомой до последней выбоины, до каждой чугунной тумбы у ворот. Шел в свою пустую луврскую квартиру, где ему предстояло провести ночь, возможно самую тяжелую в его жизни.
Он шел прочь от Якобинского клуба, еще не зная, быть может лишь догадываясь, что никогда не вернется туда. Он думал о холстах и учениках, о своих мальчиках, думал о своей жизни, о своем прошлом и будущем, которого может и не быть.
Темнела, сгущалась ночь. Прохожие, редкие в этот час, протягивали ладони, ожидая, не упадет ли капля дождя. Но дождя не было.
Мучительное беспокойство владело душой Давида, он боялся гибели, но более всего — собственной нерешительности. Он хорошо понимал, какие советы будет нашептывать ему благоразумие этой ночью, заранее боялся оказаться недостаточно твердым.
Пробило полночь на старых луврских часах, возвещая начало нового дня — 9 термидора. Закончился последний день жизни монтаньяра Давида. В эту ночь человек победил в нем гражданина.
На следующее утро он не появился в Конвенте.
Но разве вычеркнуть и изгладить из памяти не есть вернейший путь к неведению?
Mонтень
Мир стал до смешного маленьким. Его ограничивали стены комнаты, где поселили Давида. В этом мире существовал только сам Давид. Он один. Время тянулось медленно, тягуче, тревожно. Оно приносило воспоминания. А сейчас даже тюрьма, в которой он находился, пугала его меньше, чем мысль о минувших днях.
Он ходил по комнате растерянный, глубоко несчастный. Старался разобраться в самом себе, понять, что произошло. Безжалостные воспоминания с неумолимой отчетливостью восстанавливали перед ним недавнее прошлое, и не было силы, способной отогнать эти страшные мысли…
Нет больше монтаньяра Давида. Он исчез в ту ночь, когда живописец заперся в мастерской, наглухо отгородился от мира. Он оставался там, когда решалась судьба революции, когда войска Конвента ворвались в ратушу — последнее убежище Робеспьера. Он оставался у себя в тот дождливый вечер 9 термидора, когда залитый собственной кровью, с раздробленным пулей лицом, брошенный на деревянный стол в ратуше, Робеспьер ждал казни.
Что произошло с Давидом? Получил ли он тайное предупреждение, переменил симпатии или просто рассудил, что не стоит рисковать жизнью? Так или иначе, он не пришел в Конвент.
Кто знает, о чем думал он той ночью, так резко и внезапно изменившей его убеждения? Чего стоила ему эта перемена? Есть вещи, навсегда скрытые от биографов, страницы жизни, о которых можно только догадываться.
Никто не знает, что делал Давид в эти дни.
10 термидора на эшафоте погибли Робеспьер, его брат Огюстен, Сен-Жюст, Кутон и все ближайшие сподвижники Робеспьера.
Завершилось господство монтаньяров. Большинство из них окончило свою жизнь и свою борьбу в одно и то же мгновение. Давид перестал быть якобинцем, но продолжал жить. И вот теперь он в тюрьме. Он был якобинцем — этого достаточно, чтобы лишить его свободы. Заключенный в тюрьму врагами революции, он полной мерой вкусил судьбу отступника: у него нет даже цели, во имя которой он переносит страдания. Он между двух жизней, между двух эпох. Он вглядывается в самого себя, он пытается понять, кто он теперь. Он, всю жизнь ненавидевший неуверенность. Он не может не вспоминать Робеспьера, всех этих людей, бывших ему такими близкими и необходимыми. Сейчас их называют изменниками и тиранами. Если Давид и не верит этому, то лишь в самых потайных уголках души. Он не хочет идти на гильотину.
Мир, шумный и огромный, до краев, переполненный событиями и новостями, встречами и спорами, бесконечными делами, внезапно исчез за стенами Отель де Ферм. Впрочем, он исчез, наверное, раньше, в тот вечер, когда Давид покинул Якобинский клуб…
Дни после 9 термидора, проведенные один на один с собою, отняли у Давида последние остатки мужества. 13 термидора он все же появился в Конвенте, где не осталось никого из его прежних друзей. Теперь у него были только враги. Он бросил в беде Робеспьера, но депутаты видели в нем робеспьериста, сподвижника «тирана». Настаивали на его аресте. Он пытался оправдаться. Страшнее всего было вспоминать собственную беспомощную и недостойную речь, когда только одно желание руководило Давидом: выжить, сохранить голову на плечах. У него даже мелькнул проблеск облегчения, когда был декретирован его арест, — останься он на свободе, укоры совести стали бы еще мучительнее. Его отвезли в Отель де Ферм. Комната Давида просторна и сравнительно комфортабельна, ему разрешили писать. Термидорианские власти демонстрировали свой либерализм. К Давиду допускали посетителей. К нему приходили ученики, юноши не боялись показать свое отношение к учителю даже в эти дни, когда участие к преступникам могло навлечь опасность. «Вот люди, которым я еще нужен, — думал Давид, — больше никому». Эти юноши, почти не думая о политике, жалели Давида и мечтали добиться его освобождения. Все же он оставался заключенным, к тому же не знающим, что ждет его завтра.
Он с жаром занялся живописью, стараясь уверить себя, что счастлив возможностью вернуться к искусству, не отягощенному политическими страстями.
У него не было натуры, но было зеркало. Так появился автопортрет.
Давид без парика, без пудры, волосы развились, сбились на лоб, и лицо кажется почти юным, настолько оно не прикрыто обычным щитом зрелости, самообладания, выдержки. Глаза смотрят с мучительным недоумением, словно живописец силится разглядеть в собственном изображении ответ своим печальным мыслям.
Или он просто хочет забыть обо всем и потому старается думать только о живописи, о красках и напряженным созерцанием надеется разогнать неприятные мысли. И странно выглядит это растерянное лицо над элегантным белым галстуком, над щегольским карриком, распахнутым над сорочкой тонкого батиста.
Одиночество, как едва слышный, но настойчивый мотив, звучало в портрете. У Давида один собеседник, один натурщик и один судья — он сам. За всю свою жизнь Давид не написал более откровенного полотна. Он тешил себя мыслью, что в будущих картинах вернется к забытой им древности. Был убежден, что никогда не возвратится к шумной политической жизни и проведет остаток дней в уединении, занимаясь лишь искусством.
В то же время Давид пытался понять, в чем, собственно, его обвиняют. Если он и виноват перед кем-нибудь, то, во всяком случае, не перед новым правительством. Только собственная совесть и воспоминания о Робеспьере могли его тревожить. Письма, которые художник посылал в Конвент, оставались без ответа. Давид тщетно добивался хотя бы суда, хотя бы обвинительного заключения. Он писал, что обманулся в Робеспьере. Быть может, он сам начинал этому верить?