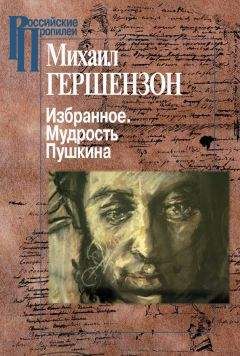Отсюда начался у Пушкина обычный, даже неизбежный процесс воплощения веры. Вера всегда рождается из воли в виде отвлеченного утверждения, но никогда не остается им: с самой минуты ее рождения в духе начинается ее преображение. Сказано: «вера без дел мертва»{123}; с таким же правом можно сказать: «вера без образа мертва», потому что догмат веры не иначе наполняет душу, как облекшись в конкретные образы, как бы зерно ее, пав в воображение, родит в нем и организует фантастический мир или фантастическое существо, в основе их бытия совершенно отличные от внешней действительности, даже противоположные ей, но в конструкции и в механизме движений точно следующие ее законам. Так вера Пушкина облеклась в образ тени. Раз начавшись, этот процесс воплощения не может остановиться, пока не дойдет до конца, то есть пока не придаст тому фантастическому образу всех признаков конкретности до полного уподобления предметному миру. Только в этой полноте образ веры действительно наполняет душу: он стал объективным, он мнимо-доступен восприятию всех внешних органов чувства, как любая вещь; он стал достоверным, как все, что мы видим и осязаем. Отвлеченное верование Пушкина: «личность жива и за гробом» облеклось в образ тени, и этот образ, постепенно наполняясь жизнью, наконец, совершенно уподобился плотскому существу, живому человеку: тень чувствует, ходит, целует и действует.
Но в этой конечной точке вера снова оказывается лицом к лицу с действительностью, от которой она вначале отделилась. Этой чувственно-воспринимаемой действительности теперь противостоит другая, тоже – только иначе – воспринимаемая действительность. Та не дает никаких показаний о тенях, в этой тени живут и действуют. Казалось бы, человек, находящийся в здравом уме, должен во что бы то ни стало сделать выбор – признать подлинною либо ту, либо другую. Внешний опыт неопровержимо свидетельствует, что все люди умирают; вера утверждает, что некогда был человек, который так и не умер, но жив поныне и будет жить вечно.
Опыт убеждал Пушкина, что смерть разрушает не только тело, но и самую личность человека; вера упорно твердила ему, что личность остается живою после телесной смерти. Такие противоположности могут ли уживаться в сознании? Но таков всеобщий закон человеческого духа: вера и эмпиризм не только всегда сосуществуют, но даже и не могут существовать друг без друга, как в живом существе душа без тела или тело без души. Как видно, человек, хотя и бессознательно, но твердо знает, что у него есть два воспринимающих аппарата и, следовательно, два опыта, два познания: познание грубо-чувственное, в котором учтены лишь внешние движения вещей, и познание высшее и целостное, основанное на показаниях общего, несравненно более чуткого восприятия. Оттого он и верит эмпиризму, и не верит, руководствуется им в своей внешней и частичной деятельности, но и знает его целостную ложь и в душе противопоставляет его лживому образу мира иной образ мира, знаемый тайно, как подлинная действительность. И для Пушкина его «нет» и «да» в вопросе о загробной жизни были не двумя исключающими друг друга положениями, но двумя истинами разного качества: одна – истиной рассудка, другая – истиной духа.
Так же двойственно, но с более ясным самосознанием и определеннее, чем Пушкин, думал о загробной жизни Гёте. 19 октября 1823 г. он сказал канцлеру Мюллеру: «Для мыслящего существа совершенно невозможно представить себе небытие, прекращение мышления и жизни; постольку каждый носит в самом себе доказательство бессмертия, притом непроизвольно. Но лишь только человек захочет объективно выступить из себя и догматически доказать или понять продолжение личного существования за гробом, лишь только вздумает облечь то внутреннее восприятие в филистерский наряд, – он тотчас запутывается в противоречиях. И все же человека всегда влечет сочетать невозможное. Почти все законы – синтезы невозможного; например, институт брака. И это – благо, потому что только постулируя невозможное, он способен достигать наивозможного»{124}.
В этом умозрении Пушкина более всего поражает одна черта: его жажда именно личного бессмертия. Так называемое бессмертие души, то есть безличное бессмертие, нисколько не интересовало его; по-видимому, он приравнивал его к полному угашению жизни. Я не знаю в творчестве и в мировоззрении Пушкина ничего, что в такой степени характеризовало бы его, как эта черта: самоутверждение своей личности, какова она есть.
Пушкин рано заметил загадочное явление сонной грезы и на протяжении лет, как увидим, временами пристально размышлял о нем. В своих произведениях, начиная с «Руслана и Людмилы» 1817–1819 гг., кончая «Капитанской дочкой» 1833 года, он изобразил пять сновидений. Собрав их вместе и внимательно рассмотрев, можно до некоторой степени уяснить себе общую мысль Пушкина о сновидении, если только у него сложилась такая единая мысль, или, по крайней мере, узнать характер и причины его интереса к этому явлению. В делах такого рода надо больше всего остерегаться поспешных обобщений; поэтому я разберу каждый случай отдельно, как если бы он был единственным, и только в конце попытаюсь соединить свои наблюдения в один итог, насколько это окажется возможным.
1. Сон Руслана. – Руслан уже убил своего соперника Рогдая, нашел Людмилу и везет ее сонную в Киев, где, по обещанию добродетельного Финна, она проснется. После стольких треволнений его цель достигнута; казалось бы, он должен быть счастлив. Может быть, его смутно тревожит мысль о другом его сопернике, Фарлафе, который одновременно с ним выехал на поиски Людмилы и теперь находится неизвестно где? Фарлаф труслив и коварен; возможно, что Руслан бессознательно ждет и боится вероломства с его стороны. Ночью, спешившись под курганом, сняв с седла спящую Людмилу, Руслан сидит в задумчивости; дремота понемногу одолевает его; наконец он уснул.
И снится вещий сон герою:
Он видит, будто бы княжна
Над страшной бездны глубиною
Стоит недвижна и бледна…
И вдруг Людмила исчезает,
Стоит один над бездной он…
Знакомый глас, призывный стон
Из тихой бездны вылетает…
Руслан стремится за женой;
Стремглав летит во тьме глубокой…
И видит вдруг перед собой:
Владимир в гриднице высокой,
В кругу седых богатырей,
Между двенадцатью сынами,
С толпою названных гостей,
Сидит за браными столами.
И так же гневен старый князь,
Как в день ужасный расставанья,
И все сидят не шевелясь,
Не смея перервать молчанья.
Утих веселый шум гостей,
Не ходит чаша круговая…
И видит он среди гостей
В бою сраженного Рогдая:
Убитый, как живой, сидит;
Из опененного стакана
Он, весел, пьет и не глядит
На изумленного Руслана.
Князь видит и младого хана,
Друзей и недругов… и вдруг
Раздался гуслей беглый звук
И голос вещего Баяна,
Певца героев и забав.
Вступает в гридницу Фарлаф,
Ведет он за руку Людмилу;
Но старец, с места не привстав,
Молчит, склонив главу унылу,
Князья, бояре – все молчат,
Душевные движенья кроя.
И все исчезло – смертный хлад
Объемлет спящего героя.
Сон явно распадается на две части. Первая часть его: падение Людмилы в бездну, ее призывный стон оттуда и устремление Руслана ей во след есть несомненно отражение пережитых Русланом тревог, его ужаса при исчезновении Людмилы, долгого страха за нее, неизвестности, поисков. Но вторая половина сна есть предвидение и пророчество: ведь Фарлаф действительно в эту же ночь похищает у него Людмилу и увозит ее в Киев. Сон почти полностью осуществляется на деле; только во сне Фарлаф при звуках Баяновой песни вводит Людмилу за руку в гридницу Владимира, – в действительности он внесет ее, спящую на руках, и Баяна не будет там; но, как и во сне, появление Фарлафа с Людмилой не обрадует ни Владимира, ни его гостей – все останутся погруженными в уныние. Даже предположив в Руслане тот безотчетный страх пред Фарлафом, такое точное предвидение фактов остается загадкой.