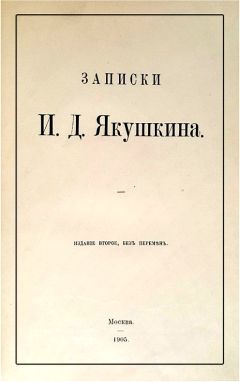Декабризм был неким идейно-политическим, социально-нравственным и нравственно-психологическим процессом, который не мог не вылиться в нечто очевидное, не мог, как говорится, не «заявить о себе», чтобы не уйти в «песок истории», декабризм не хотел скрывать своего истинного лица, а, напротив, хотел, чтобы это его истинное лицо увидели. Это очень важный социально-психологический момент, и им — этим именно моментом — многое может и должно быть объяснено в декабризме вообще…
Все время по большей части говорится о причинах «неудачи» декабристов, о причинах их «поражения». А почему, собственно, и в каком, главное, смысле можно и следует тут говорить о «неудаче» и «поражении»? Ведь В. И. Ленин, говоря о восстании на Сенатской, подчеркивал, выделял, как помним, в этом случае две стороны вопроса, неизменно перенося центр тяжести с неудачного восстания на то, что «дело не пропало» при этой неудаче, а, напротив, оказало кардинальное воздействие на всю российскую историю, на весь ход освободительного движения в стране на все дальнейшее время. Это очень важное положение. И оно основано, в частности, на известной традиции самоосознания в собственно декабристской среде. Откуда явились, в самом деле, то чувство исполненного долга, то чувство удовлетворения от совершенного — гражданского удовлетворения, которые, казалось бы, способны лишь озадачить при чтении мемуаров и писем «нашего Якушкина», и Пущина, и Оболенского, и Басаргина, и Фонвизина, и Лунина, и «даже» Трубецкого?
Декабристы испытывали огромную внутреннюю потребность заявить о себе. Они словно говорили всей этой России, в которой часть людей их ненавидела и боялась, а другая часть была от них страшно далека и не очень-то бы «в случае чего» им поверила, — «побей, но выслушай!». По инерции словно они говорили то же самое и на следствии — «под протокол». Их побили; но вот теперь мы читаем их показания, удивляясь и ища объяснений их словоохотливости, которую сами они друг другу уже давно успели как бы «простить» (на каторге и поселении вообще не было принято выяснять и обсуждать, кто о ком что рассказал во время следствия), и, наконец, слушаем их, столь — на беду себе и в науку нам — словоохотливых и даже красноречивых…
«В 1825 году Россия, — писал Ленин, — впервые видела революционное движение против царизма». Впервые. А до той поры она знала лишь «слепые и беспощадные бунты» да кровавую возню «под ковром» дворцовых переворотов.
«Почти все вступления на российский престол, начиная с Петра I, отмечены дворцовыми революциям», совершенными в тени и частных интересах, — писал Лунин. — А восшествие на престол императора Николая, наоборот, ознаменовалось событием, носящим характер публичного протеста против произвола, с каким распоряжаются судьбой государства… против обращения с народом, как с семейной собственностью. Восстание 26/14 декабря как факт имеет мало последствий, но как принцип имеет огромное значение. Это первое официальное выражение народной воли в пользу представительной системы и конституционных идей, распространенных русским Тайным обществом».
Так не пишут о поражениях, так можно писать лишь о Пирровой победе противника. «Смотря на события 14-го декабря как на сражение между сторонниками самодержавия и сторонниками политической свободы, мы, — замечает Плеханов, выражая далее весьма важную мысль, — не можем не видеть непоследовательности и нецелесообразности в действиях заговорщиков. Если же мы взглянем на те же события как на военную манифестацию, предпринятую людьми, не успевшими и приготовиться к серьезной битве и решившимися погибнуть для того, чтобы своею гибелью указать путь будущим поколениям, то мнимая непоследовательность и нецелесообразность их действий очень просто объяснится нежеланием усиливать кровопролитие и увеличивать число жертв… «Эти люди хотели всенародно заявить мысль русской свободы, — справедливо говорит Герцен, — зная, что они погибнут, но что, раз всенародно заявленная, эта мысль уже никогда не погибнет». При таком настроении, — продолжает Плеханов, — вопрос о том, удастся или нет захватить пушки и занять Петропавловскую крепость, мог иметь в их глазах лишь второстепенное или третьестепенное значение.
Если же, взглянув на дело с этой точки зрения, — заключает Плеханов, — спросим себя, достигнута ли была главная цель восставших, то мы, не колеблясь, ответим утвердительно, потому что, — как это очень хорошо сказал тот же Герцен, — пушечный гром, раздавшийся на Сенатской площади, разбудил целое поколение».
Все это было сказано Плехановым в речи, произнесенной им 14 декабря 1900 года в Женеве и посвященной 75-летию со дня восстания на Сенатской площади.
С предложенной Плехановым точки зрения, кстати сказать, не столь уж важным делом представляется выяснение того, к примеру, вопроса, в каком именно часу пришел на Сенатскую первый восставший полк, в каком и с какими минутами второй и почему какая-то часть задержалась; в какое именно время был убит Каховским Милорадович, где именно «прятался» Трубецкой (или, по предположению, мог «прятаться»); как менялась погода в течение рокового дня, в какую именно минуту «прогремела картечь», сколько в точности было произведено выстрелов, каков был радиус обстрела и т. д. и т. д. И во всех этих обстоятельствах вновь и вновь искать разгадку «неудачи восставших», вновь и вновь иллюстрируя тот постулат, согласно которому все дело-то заключалось в том именно, что просто, согласно укоренявшейся точке зрения, «декабристы совершенно не владели искусством вооруженного восстания, и на их горьком примере русское революционное движение начало учиться этому искусству». А в то же время «характерная для дворянских революционеров ошибка — выжидание — было все же… не просто «вообще» выжиданием, а ожиданием прихода других восставших частей». Эти части все как-то запаздывали из-за отсутствия необходимого, стало быть, навыка, восставшие на Сенатской мерзли, мороз усиливался — оттого и восстание «не удалось». Стало быть, в этом урок 14 декабря, а именно в слабости дворянских революционеров, все чего-то выжидавших и все отвергавших и отвергавших — когда ясно стало, что своих сил не хватает, — поддержку со стороны «толпы» простолюдинов, которая так и рвалась «в дело».
Повторяю, с предложенной Плехановым вслед за Герценом точки зрения все эти обстоятельства не представляются особо существенными, во всяком уж случае не могут раскрыть сути и общественно-исторического и иного смысла всего происшедшего 14 декабря, поскольку все эти обстоятельства привлекаются для доказательства и отыскания причин неудачи декабристов, толкуя эту «неудачу» с точки зрения возможности достижения восставшими военно-политического успеха, который, кажется, и не был столь уж фатально исключен.
Но с той же самой точки зрения весьма важно, очевидно, будет то обстоятельство, что события на Сенатской не скатились до уровня поддержки очередного дворцового переворота, при котором какая-то масса «недовольных» солдат и офицеров выполняла бы привычную роль резервной «силы давления», манипулируемой «инициативной группой» функционеров-заговорщиков, рвущихся к государственному пирогу. В то же время и в не меньшей степени с указанной точки зрения будет важно и то обстоятельство, что события на Сенатской не сыграли роль детонатора для второго издания своеобразной «пугачевской аракчеевщины», согласно злому, но меткому выражению Герцена.
Вообще говоря, невозможно взять все-таки в толк, почему, в силу каких таких соображений означенная точка зрения на события 14 декабря не должна приниматься в расчет. Нельзя исключить, очевидно, того предположения, что в этом случае действует невысказанное опасение, что при подобном подходе к делу можно, пожалуй, незаметным (и для себя самого) образом как-нибудь впасть в грех плехановского объективизма или даже чего-нибудь похуже. И что вместе с тем при подобном подходе можно упустить из виду и либеральные грехопадения Герцена, каким-то образом, быть может, сказавшиеся-таки при оценке действия декабристов. Все подобные опасения, возможно, и существуют, хотя бы в неком методологическом подсознании иных исследователей. Но тогда эти опасения надо выводить из сферы неосознанной инерции мышления и говорить о них прямо и ясно, разбирая и анализируя возможность и реальную степень опасности такого рода идейно-методологических «перекосов», а не оставляя эти опасения «за кадром» собственных рассуждений, но в то же время давая почувствовать читателю подразумеваемую вескость всех этих опасений.
И вновь, в который уже раз, все упирается в сакраментальный вопрос о том, почему же «палили» не «эти», а «те». А ведь, проявляя элементарную последовательность, при таком взгляде на вещи надо было бы задаться и вопросом о том, почему же это и вешали потом «те», а не «эти» — ведь, начав «палить», пришлось бы потом и вешать. Или такое простое соображение вообще и в голову не могло прийти тем, кто «стоял» у подножия Медного Всадника на Сенатской, тем, кто, выдерживая атаки конницы, стреляли поверх кирас, тому же, к примеру, весьма неробкому Сутгофу, говорившему своим мятежным гренадерам: «Чтобы в людей не стрелять, а вверх!»