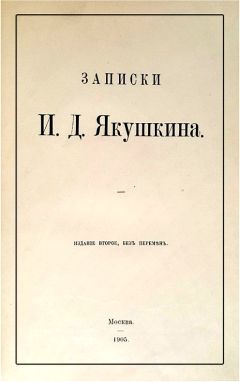Победа-поражение декабристов — феномен до известной степени, действительно, парадоксальный. Перекосить все дело в какую-нибудь одну сторону — значит в этом случае уйти от истории вообще. Парадокс близок «странности»? Да. А ведь время, о котором идет тут речь, вообще было, если можно так выразиться, временем странных людей. «Не странен кто ж?» — это не во всякую историческую пору придет в голову человеку. Но и в эпохи, уже особенно урожайные на странных людей и парадоксальные ситуации, попадаются люди «уж больно странные», случаются ситуации «крайне парадоксальные» и такие же мысли, и такие же поступки, которые иной раз даже именуют, снижая оценочный уровень, «выходками».
Чувство парадоксального, даже какой-то вкус к парадоксальности был в высшей степени присущ Пушкину, сказавшему как-то в одном из своих незаконченных набросков ныне уже затасканное: «гений — парадоксов друг». Формула, которая стала теперь восприниматься как каламбур, да и только. «Меланхолический Якушкин» и тут же — «кинжал». Это, конечно, парадоксальное соединение. И «меланхолический», и «кинжал» — слова для того времени особо значимые, несущие очень большую внутреннюю социально-психологическую «нагрузку». Про «кинжал» даже прямо сказано: «цареубийственный». И все-таки «меланхолический». Пушкин был гением парадокса. Не приметить парадоксальность той характеристики, которую дал он Якушкину, нельзя; пройти мимо этой парадоксальности, «снять» ее каким-то образом — значит по каким-то причинам не пожелать углубляться в дело. Пушкин прекрасно ощущал иронизм истории и потому, быть может, так, в частности, боялся показаться смешным сам. Объектом исторической иронии он быть не хотел и порой искал нелегкого выхода в парадоксальных поступках, потому был так поразительно чуток и внимателен ко всякого рода «странностям» окружающего мира.
«Меланхолический Якушкин» с «цареубийственным кинжалом» в руках — фигура, конечно, странная, парадоксальная. Но парадокс — не абсурд, не нелепица и не «чистая случайность». Только вот пытаясь объяснить парадокс, отыскать его истоки, нужно, наверное, постараться самому не утратить чувство парадоксальности явления, с которым ты имеешь дело, — иначе исчезнет, растает в воздухе сам предмет твоего анализа. Парадокс, парадоксальное поведение, парадоксальный образ мысли в каком-то отношении сродни сфере творческой стихии, в них есть нечто от художественной импровизации, они не стеснены заданными формами и предписанными канонами, они, как говорится, самобытны и оригинальны в собственном смысле этого слова. В парадоксе поведение и мысль мутируются. Парадокс — сам в известном роде мутант, соединяя в себе разнородные начала и тенденции. И как мутант он неповторим, неразмножаем, если можно так выразиться. Он всегда уникален, и потому в нем с такой резкой выразительностью проявляется личность человека, которая, в общем-то, по природе своей всегда ведь парадоксальна отчасти, всегда готова «преподнести нечто новенькое», если только, естественно, это само «новенькое» вовремя не «причешут», как следует быть.
И все-таки Шаховской почувствовал, конечно, некую парадоксальность «своего Якушкина», когда ему пришла в голову мысль поставить этого Якушкина в ряд, рядом с Чаадаевым. Шаховской при этом только весь «лед» оставил за Чаадаевым, а весь «пламень» — за Якушкиным, это была уже схема, в которой живая реальная парадоксальность личности Якушкина стиралась, типо- логизировалась согласно привнесенной тенденции, той расхожей в ту пору точке зрения на людей, согласно которой каждый человек «должен был» быть «тем или иным», а не «тем и иным» в одно и то же время.
Можно сказать, что в парадоксальном поступке, поведении или образе мысли проявляется некая свобода человека, поступающего и думающего совершенно неожиданно для окружающих, не стереотипно, по-своему, «как бог на душу положит». Можно сказать, что в парадоксе заключено некое своеволие поступка, формы поведения или чувств. Но в то же самое время «настоящие парадоксы» в сфере общественной жизни получаются не «просто так», не по прихоти какой-либо личности и не «от нечего делать». Парадоксы вынуждаются жизнью, как правило, оказываясь тем единственным решением какой-то внутренней задачи, которое оказывается в данной ситуации возможным для данной личности. И вместе с тем само понятие, само чувство парадоксальности возможно, способно возникнуть лишь в том случае и при том непременном условии, когда уже существует представление о какой-то «норме» поведения и нормальном ходе мысли и положении вещей. Кинжал в руках молчаливого меланхолического Якушкина странен, парадоксален потому, что он был бы очень не странен и совершенно не парадоксален в руке какого-нибудь бурнопламенного «кавказца» Якубовича. Якубович с кинжалом вполне закономерен, а Якушкин — парадоксален. И все-таки были у такого парадокса свои причины, свои социально-психологические основания.
Я уже много тут говорил о том особом смысле, который ныне все более обретает архаическая традиция дуэлянтства, этого ритуального убийства «из принципа», «из идеи» чести ли или какой угодно иной — все одно. И тут ведь не одна архаика, не один предрассудок — тут ситуация, ситуационная модель особенного типа мировосприятия, того именно мировосприятия, которое сводится к известной формуле Грушницкого: «Нам на земле вдвоем нет места» и «если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла». И это еще достаточно «благородный» оборот, может быть куда как похуже, как все более выясняется и выясняется в жизни.
«Отказаться от дуэли — дело трудное и требует или много твердости духа или много его слабости. Феодальный поединок стоит твердо в новом обществе, обличая, что оно вовсе не так ново, как кажется. До этой святыни, поставленной дворянской честью и военным самолюбием, редко кто смеет касаться, да и редко кто так самобытно поставлен, чтоб безнаказанно мог оскорблять кровавый идол и принять на себя нареканье в трусости.
Доказывать нелепость дуэли не стоит — в теории его никто не оправдывает, исключая каких-нибудь бретеров и учителей фехтованья, но в практике все подчиняются ему для того, чтоб доказать, чорт знает кому, свою храбрость. Худшая сторона дуэля в том, что он оправдывает всякого мерзавца — или его почетной смертью, или тем, что делает из него почетного убийцу. Человека обвиняют в том, что он передергивает карты, — он лезет на дуэль, как будто нельзя передергивать карты и не бояться пистолета. И что за позорное равенство шулера и его обвинителя!
Дуэль иногда можно принять за средство не попасть на виселицу или на гильотину, но и тут логика не ясна, и я все же не понимаю, отчего человек обязан под опасением общего презренья не бояться шпаги противника, а может бояться топора гильотины.
Казнь имеет ту выгоду, что ей предшествует суд, который может человека приговорить к смерти, но не может отнять права обличить мертвого или живого врага… В дуэли остается все шито и крыто — это институт, принадлежащий той драчливой среде, у которой так мало еще обсохла на руках кровь, что ношение смертоносных оружий считается признаком благородства и упражнение в искусстве убивать — служебной обязанностью.
Пока миром будут управлять военные, дуэли не переведутся; но мы смело можем требовать, чтоб нам самим было предоставлено решение, когда мы должны склонить голову перед идолом, в которого не верим, и когда явиться во весь рост свободным человеком и, после борьбы с богом и с властями, осмелиться бросить перчатку кровавой средневековой распре.
…Сколько людей прошли с гордым и торжествующим лицом всеми невзгодами жизни, тюрьмами и бедностью, жертвами и трудом, инквизициями и не знаю чем — и срезались на дерзком вызове какого-нибудь шалуна или негодяя.
Эти жертвы не должны падать. Основа, определяющая поступки человека, должна быть в нем, в его разуме; у кого она вне его, тот раб при всех храбростях своих».
А. И. Герцен. Былое и думыА потом, после всего этого, Герцен скажет, что, как это ни парадоксально, но, прекрасно понимая нелепость и даже вредность подобного рода чувств, он сам однажды испытал «нравственную необходимость, физиологическую необходимость» отомстить. И все его теоретические суждения куда-то отступили. Только одна цель осталась перед ним. «А уж дуэлем или просто ножом достигну я ее — мне было все равно». Даже так. Но нож не был все-таки пущен в дело, да и дуэль все-таки не состоялась.
Не состоялась и дуэль Якушкина с Нарышкиным, и не был пущен в дело «кинжал» на царя. Вызов, который, как помним, почти уже послал Якушкин Нарышкину, был словно бы пролонгирован вплоть до «вызова на цареубийство». Этой своеобразной пролонгацией вызова «по личным мотивам» Якушкин словно бы силился напрямую, непосредственно сомкнуть ритуал дуэли с актом политического убийства в форме дуэли с заведомо гарантированным смертельным исходом для обеих «сторон» при свидетелях, но без секундантов. Это было, конечно, парадоксальным решением в той психологической ситуации, в которой себя чувствовал и которую столь болезненно переживал Якушкин, как бы застыв в жесте вызова после пережитой им драмы чувств. Нужна была какая-то разрядка, нельзя было навсегда уже остаться в нелепо безадресном жесте отмщения. И логика нравственно-психологического чувства указала на предельную цель отмщения и вместе с тем на оптимальный вариант разрядки всей накопившейся к тому времени в Якушкине энергии социального возмездия. И вновь судьба остановила Якушкина. Остановила от нравственно ошибочного решения. Ведь, как совершенно справедливо заметил Герцен, ритуал, ситуация дуэли, сам принцип ее уравнивают «стороны» и даже заведомо предполагают своим условием социально-психологическое равенство «сторон». Это тому же «кавказцу» Якубовичу пристало, быть может, носиться повсюду и кричать о том, что он не может жить без того, чтобы не отомстить Александру I выстрелом за то, что был… обойден по службе и что геройство его на Кавказе не было по достоинству оценено царем. Якубович карикатурил в этом случае намерение Якушкина, хотя и считал свои побуждения достаточным поводом для того, чтобы «быть принятым» в декабристском Обществе, а вот Якушкин счел отклонение своего «вызова» вполне достаточным основанием для того, чтобы Общество покинуть.