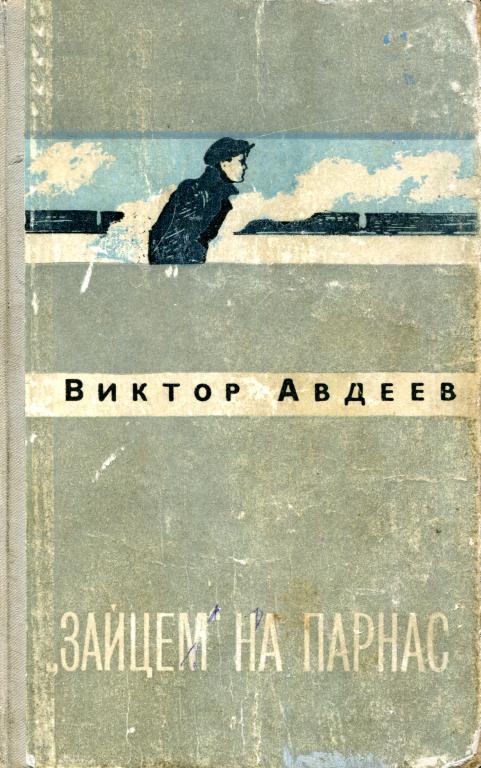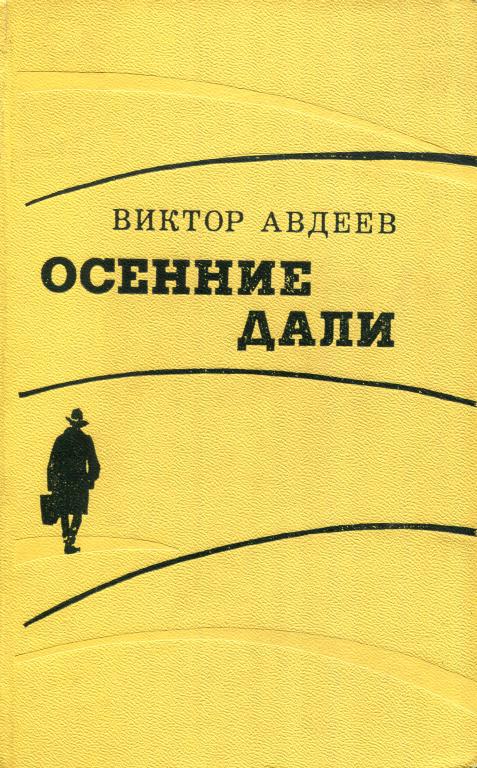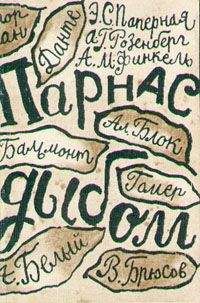читаем. Там ведь, наверно, одни лозунги?» Теща моя, правда, сборничек взяла с удовольствием: неделю спустя я увидел, что она приловчилась накрывать им банку с малосольными огурцами. Оставшись у Курганова ночевать, я с жаром сказал, что всячески его пропагандирую.
— И не без успеха, Серега. Весь наш дом тебя наизусть знает. Книга твоих стихов, понимаешь… она, брат, все время на виду лежит.
Сказать всю правду у меня не хватило мужества: Сергей подумает, что я нерадиво отношусь к нашему договору. А что я мог еще сделать? К знаменитым писателям я больше не ходил, а молодые читали стихи Курганова и без моих рекомендаций.
— Ну и я делаю, что могу, — сказал Сергей, отводя глаза. — Всем нахваливаю твою книгу с пеной у рта. С одним типом чуть не подрался.
— Как чуть не подрался? — Я почувствовал неладное.
— Да очень просто: не признает тебя, и все. «Жиденькая повестушка. Никакого мастерства». Я ему: «Надо сперва разбираться в искусстве, а потом судить». А на днях, понимаешь, подсунул твоего «Карапета» на письменный стол Николаю Асееву. Знаменитость! Мастодонт! Ну, встал уходить, а он: «Курганов, вы тут уж в третий раз какую-то книжонку забываете». Я рукой за голову: «Ах, мол, вот рассеянность. Между прочим, выдающееся произведение, бьет, прямо как спирт». Асеев смеется… Он ведь остер на язык. «Я, говорит, не алкоголик. Еще хлебнешь, а потом три дня рвать придется».
Я попытался бодро улыбнуться: одеревеневшие губы криво дернулись.
— Прав ты был в Коктебеле, Серега: не хотят нас читать мастодонты. Ну и хрен с ними. Без них в люди вылезем. Знаешь… верни мои книжки обратно, а? Друзья просят, а дарить нечего.
«Вечная память нашему договору, — размышлял я, укладываясь на диване. — С души будто дохлого кота сняли».
Я чувствовал, что и Сергею стыдно о нем вспоминать.
Однако что же это такое? Вот у меня вышла и отдельная книга в «большой» литературе, а все не признают. В редакциях, куда я приносил свои рассказы, меня принимали за начинающего, «самотек», и рукописи возвращали со стандартной оценкой: «Слабо. Не подойдет. Читайте Максима Горького». Да что там! Прошло целых полгода, и лишь одна московская газетенка опубликовала на «Карапета» рецензию, и то кисло-сладкую. Написал ее знакомый мне начинающий критик и при встрече покровительственно намекнул: «С тебя причитается!» Вот жук! На моей книжке заколотил гонорар да еще и бутылку требует! Сам бы должен поставить! Неужели Прудаков был прав и нас похвалили как «беспризорников в искусстве»? Что же делать? На какие шиши жить? Наверно, придется-таки поступить куда-нибудь «чиновником» — подшивать бумаги. Тогда прощай литература! Смогу ли я после восьмичасовой лямки в учреждении корпеть над рассказами?
Попал в капкан! Взять да завербоваться в Заполярье? Зашибить деньжонок, а потом засесть за новую книжку?
И все же какие-то плоды «Карапет» мне принес: на следующий год я был принят в Союз писателей. Я возликовал, надеясь, что теперь станет жить куда легче. Ничего подобного: только членские взносы пришлось платить.
Горькой оказалась для меня эта зима. Я похудел, сторонился людей. В мае опять привез в Москву новый очерк. И тут знакомый молодой писатель сообщил, что меня искал Прудаков. Зачем это я ему понадобился? Вдруг скажет: «Карапет» твой разошелся, мы хотим его переиздать»? Вот бы здорово, а? Сразу выход из капкана. Или, может, решил послать куда в командировку писать очерки? Тоже бы не плохо. Живые деньжонки. Я немедленно поехал на Поварскую в Союз писателей. Сердце согрела надежда: все-таки, значит, известность моя растет?
В приемной секретарша спросила мою фамилию, зачем я пришел. Попросила присесть, а сама скрылась за огромной резной дверью кабинета. Выйдя, она сказала, чтобы я подождал: Прудаков скоро освободится. Важно, размеренно тикали часы в старинном футляре, у стен сидели другие просители, ожидавшие приема. Разговаривали тихонько, огромный, ворсистый ковер на полу глушил шаги. Ого, брат, как тут все важно. Главный департамент литературы, здесь судьбы многих писателей решаются.
Прошло больше часа, прежде чем меня впустили. Склонив лысую голову над огромным письменным столом, Прудаков разбирался в бумагах. Шелковая рубаха его была расстегнута на оплывшей шее, над рыжеватыми бровями скопился пот. Открытая бутылка с минеральной водой и стакан стояли сбоку на хрустальном подносе.
— Садись, Авдеев, рассказывай, как живешь, над чем работаешь? — сказал он, лишь мельком глянув на меня.
Я по-прежнему терялся в догадках: чем удостоился вызова секретаря Союза писателей? А вдруг узнал, что я не уплатил членские взносы за последние полгода и хочет намылить шею? Осторожно опустился в мягкое кресло с другой стороны стола, ответил, что пишу рассказы.
— Где печатаешь? Почему-то я их не вижу.
Я заерзал на стуле. Прудаков отодвинул бумаги, поднял голову.
— Опять, значит, дуешь про шпану? Та-ак. Конечно, ни один журнал не возьмет.
— Пробую про гражданскую войну, Дмитрий Пантелеич. Маленькую повесть «Дедово подворье»… кончаю. Бледновато получается.
— А хорошо и не получится. Тут не подворья и задворки нужны, а добротное изучение материала. Хорошенько в архивах покопайся, порасспрашивай участников. А то небось все из пальца высасываешь? С каких же заработков… на приварок берешь? Или обедаешь вприглядку?
Опрос не понравился мне. Кому какое дело, как я живу? То в прошлом году директор «Советской литературы» Цыпин пристал, как с ножом к горлу, все в «Известия» пристраивал. (Дурак, что я малодушно сбежал из редакции! Хороший человек был!) Теперь Дима Пузатый выпытывает. А этому зачем понадобилось? Чего хлопочет? Не ворую ведь, в протянутую руку копейки не сшибаю? Я сбычился, засопел.
— А не пора ль тебе, Авдеев, танцевать от другой печки? — сказал Прудаков, развалясь в кресле, почесывая под мышкой. — Слыхал небось про Мичурина? Совсем новые породы яблок вывел человек. Крепенько? Так почему же ты не видишь, как мы, большевики, поставили страну на автоколеса, Магнитку строим, Комсомольск-на-Амуре, сплошную коллективизацию прокрутили? Разве это не тема для романов? Литература, она, как и жизнь, признает только новое. Ясно? К народу вам надо идти, ребята, заболеть его интересами. Культурка у вас всех хромает. Ты вот… хоть какую-нибудь школу кончил? Небось только церковноприходскую?
«По себе, наверно, судишь?» — подумал я.
— Рабфак иностранных языков.
— А русский-то хорошо знаешь?
Я обозлился и встал со стула.
— Если вы меня шпынять вызвали, Дмитрий Пантелеич, то я уйду.
— В бутылку, Авдеев, полез, — рассмеялся Прудаков, и тучный живот его заколыхался на коленях. Он налил в стакан шипучей минеральной воды, выпил.
У меня тоже пересохло в горле, и я охотно бы смочил его: Прудаков мне боржому не предложил.
— Какие вы, альманаховцы, ершистые, — сказал