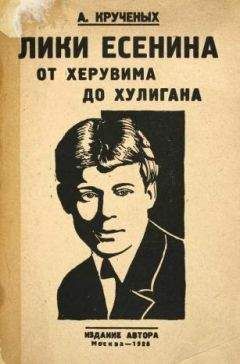Шумной гурьбой высыпали на деревенскую улицу. Повсюду чувствовался праздник. Троицу в Константинове всегда пышно отмечали. Встречались по-воскресному разряженные деревенские девушки и парни. Они шумно и приветливо здоровались со всеми.
В большой избе столы были накрыты разной снедью. В глаза бросалась батарея бутылок, графинов и просто кувшинов с самогоном. Молодые разместились в красном углу, по ту и другую стороны столов сидели степенные старички. После приветствий гостей усаживают за стол, теснятся. Слышится тост за здоровье молодых. Тост… тост… тост… Сменяются за столом люди, уходят одни, приходят другие, в основном молодежь. Часть из них за столы не садится. Столы почти пустуют, а потом их убирают совсем. Свободная комната наполняется смехом вихрастых парней и расфранченных девушек. Довольные гармонисты наперебой играют русскую. Повсюду пляс, частушки, задор — кто кого перепляшет. Вот и Сергей в шелковой белой рубашке с платочком в руках подплясывает с какой-то девушкой. Частушки — одна крепче другой — отбиваются каблуками.
Под гармоники, под частушки, под пляску гостей из Москвы проводили до дому, а молодежь еще долго-долго, до позднего утра, ходила по улице.
Первый не выдержал неуправляемого поведения Сергея Иван Старцев. «Есенин был невменяем, — вспоминал он. — Пил без просвета, ругался, лез в драку, безобразничал. Было невероятно тяжело на него смотреть. Успокоить не удавалось. Увещевания только пуще его раздражали. Я не вытерпел и на следующий день уехал в Москву. В памяти осталось: крестьянская изба, Есенин, без пиджака, в растерзанной шелковой рубахе, вдребезги пьяный, сидит на полу и поет хриплым голосом заунывные деревенские песни. Голова повязана красным деревенским платком. Встретившись как-то со мной на улице, он совершенно осипшим от вина голосом сказал: «Плохо, гусар!». И нараспев, покачивая поблекшей головой, продекламировал: «Годы молодые с забубенной славой…».
Василий Болдовкин и Иван Старцев собрались уезжать в Москву. Есенин уговаривал их остаться, но после веских доказательств уступил. Вместе с ними уехали Сахаров, Екатерина и Леля.
После их отъезда Есенина словно подменили. Он стал зло выговаривать В. Наседкину. Галя пыталась успокоить его, но он продолжал упрекать:
— А это не ужасно: приехать в мой дом, к моим сестрам с проституткой? Зачем они привезли ее? Это не оскорбление?
Галина пыталась его урезонить, но скоро ее силы иссякли, она пошла в старую избу немного отдохнуть. Не тут-то было… За ней вновь прибегали с просьбой как-то утихомирить Есенина.
На следующий день утром Сергей разбудил Галину на рассвете, чтобы она пошла с ним. Она хотела спать, отказалась. Тогда Сергей вырядился в Катино платье, чулки и исчез. Пришлось встать, пойти на поиски. Нашла Сергея на продолжающейся свадьбе. Галина увидела, как он обнимает всех и плачет: «Умру, умру скоро. От чахотки умру». Все на него с удивлением смотрят, успокаивают:
— Сергунь, ты должен быть сильным. Ведь за тебя стыдно, как баба плачешь.
Есенин вскочил плясать, но через минуту опять давай плакать.
Потом пошли с гармошкой по деревне. Сергей впереди всех, не переставая, пляшет, а за ним девушки и парни с гармонистом. Сергей был в Катиных чулках, сандалии спадали с ног, и мать на ходу то один, то другой сандалий подвязывала. Несмотря на грязь и холод, он не мог устоять на одном месте, хоть на одной ноге, да плясал.
Галя обратила внимание, что он в этот момент был красив, как сказочный Пан. Вся его удаль вдруг проснулась. Он подбежал к Галине, схватил ее за руку:
— Пойдем, пойдем в кашинский сад, я тебе все покажу, — и в том же костюме, ряженый, понесся в сад. Эту смену настроений Бениславская описала в своих «Воспоминаниях»:
«Вдруг увидел Оку. «Пойдем купаться», — и бегом с горы к Оке. Я в отчаянии: ведь у него чахотка. Выкупаться сейчас — это значит конец, наверняка. Вбежали на паром, а с того берега лошадей перевозят. «Поедем на хутор, хочешь, верхом поедем? — спрашивает Сергей Александрович. — Я тебе все там покажу». Что он хотел показать в кашинском саду и на хуторе, я до сих пор не знаю. Вероятно, свою молодость.
Взяли лошадей. Я пустила галопом, оглядываюсь: Сергей Александрович трусит на своей лошади, и видно, удовольствие это небольшое. Подождала. «Знаешь, на ней очень больно ехать». Предложила поймать из табуна другую, но он не сумел поймать. Наконец встретили конюха на оседланной лошади, забрали у него и поехали. Но через пять минут Сергей Александрович слезает, чтобы напиться воды, а потом вдруг ложиться на землю: ему худо стало, от тряски очевидно. Попросил, чтобы я сошла с лошади к нему, и лег ко мне на колени головой. Начался дождь, земля совершенно сырая. Сергей Александрович почти не одет. Я чувствую, что беда. Начинаю подзадоривать его: «Ну, скис, как баба, вставай и сейчас же садись на лошадь, как не стыдно». Сергей Александрович открывает глаза и вдруг с такой обидой и болью, как будто я невесть что сказала: «И ты, и ты ничего не понимаешь. Не надо, не буду на твоих коленях. Вот она, родная, все поймет», — и ложится головой на землю, мокрую и холодную.
Я отвязываю свою лошадь и во всю мочь мчусь к пастухам: «Слушайте, там Серега Есенин свалился с лошади, с сердцем припадок. Давайте телегу, довезти его домой». Хотя бы один шевельнулся. «Да я вам заплачу, давайте только телегу». Начинают двигаться, но нехотя. «А ты деньги сейчас давай, а то, ну потом не заплотишь». Поняла, отчего и за что Сергей Александрович презирал этих самых крестьян. Почему говорил, что «это все гавно. Им только давай деньги, а так они на весь мир плюют». Обругала их от души «сволочами» и еще как-то. Тогда зашевелились. Обещали сейчас приехать. Поскакала туда, где остался Сергей Александрович. Подъезжаю — ни его, ни лошади. Мчусь дальше по дороге — едет мой Сергей Александрович шажком, ногами побалтывает. «Ты куда?» — «Домой» — «Да дом-то в другой стороне». Повернул обратно и потом уже шагом благополучно добрались до парома. Во всей этой истории, кроме ужаса за Сергея Александровича с его чахоткой, всплыло осознание того, как Сергей Александрович отвык от деревни — ни верхом ехать, ни лошадь из табуна поймать не может, и какой он чужой своим деревенским. Так, любопытство к его выходкам, и больше ничего».
Галина рассказала Есенину об отношении к нему мужиков.
— Ты не понимаешь, как дороги для меня эти люди… Может быть, благодаря им я стал поэтом, — укорял Галю Есенин.
Она окончательно уяснила, что когда человек пьет изо дня в день, то кто бы он ни был по своему положению, начинает утомлять всех. Галина также тяготилась бесконечным пиром, была недовольна поведением Есенина, пыталась урезонить его, но на этот раз он не поддавался ее уговорам.