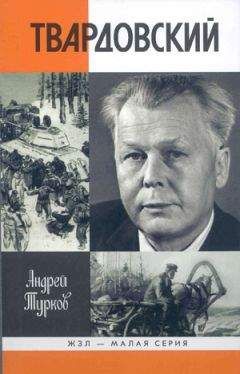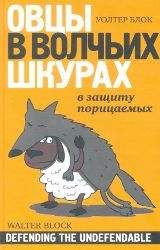(«Горные тропы»)
И так характерно для Твардовского — напомнить в пору первого и громкого космического триумфа о «новичках из пополненья», подымавшихся в небо навстречу врагу трагической осенью сорок первого года:
Прости меня, разведчик мирозданья,
Чьим подвигом в веках отмечен век, —
Там тоже, отправляясь на заданье,
В свой космос хлопцы делали разбег.
…И может быть, не меньшею отвагой
Бывали их сердца наделены,
Хоть ни оркестров, ни цветов, ни флагов
Не стоил подвиг в будний день войны.
(«Космонавту»)
Разнотемные стихи складываются в некую лирическую летопись, запечатлевшую многие черты и перипетии современности — от признанно масштабных до относительно невеликих, а вернее — «преломившихся» в событиях и эпизодах вроде бы частного свойства. И для позднего Твардовского, пожалуй, особенно дороги и принципиально важны стихи, где происходящие в истории события и переломы проявляют себя, «раскрывают» свои истинные итоги в конкретных человеческих судьбах.
Герой стихотворения «Новоселье», по благодушной интонации напоминающего довоенный цикл про деда Данилу, повествует о своей, в сущности, глубоко драматической жизни — жизни, состоявшей из целой череды «новоселий», вынужденных то «дележкой» по семейным обстоятельствам, то коллективизацией, то войной, после которой опять — «стройся заново, старик», то, наконец, вынужденным переездом в поселок.
Смерть матери[40] побудила поэта напомнить и о еще более горьких «переездах» — взамен обычного ухода замужней женщины из родимого дома:
Там считалось, что прощалась
Навек с матерью родной,
Если замуж выходила
Девка на берег другой.
Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой.
Давней молодости слезы.
Не до тех девичьих слез,
Как иные перевозы
В жизни видеть привелось.
Как с земли родного края
Вдаль спровадила пора.
В финале же стихотворения упомянут и «последний перевоз»:
Перевозчик-водогребщик,
Старичок седой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой…
(«— Ты откуда эту песню…»)
И в читательской памяти возникает отголосок древнего мифа о седом перевозчике — Хароне…
Уходящая натура, как ныне любят выражаться, запечатлена и в стихотворении «— В живых меня как бы и нету…», простодушном монологе женщины, доживающей век на «притихшем подворье» со своей «пенсийкой». Теперь у нее «благодать и покой… ни забот, ни хлопот» — почитай, впервые в жизни, когда та уже позади и ее тоже как бы и нету, как самой «забытой старушки»…
Если в стихотворении начала пятидесятых годов «О прописке» поэт с улыбкой называл свою музу «уживчивой», то потом в ней все больше проявлялись черты повышенной взыскательности к действительности и тревожной озабоченности тем, как реальность расходится с громко провозглашаемыми идеалами и принципами.
Появившиеся было с середины пятидесятых годов у Твардовского надежды на перемены к лучшему, отразившиеся в «Далях» и некоторых стихах («Вы знаете, вроде как дело пошло», — говорил «скептик прожженный» в «Свидетельстве»), слабели и угасали. Горько разочаровывали и вести со Смоленщины, и «ходоки» из других мест, и «почта моя ужасная», и впечатления от поездок («Ярославль. Пустые магазины и рынки. Уныние на женских (да и на мужских) лицах. Два сорта рыбных консервов. Безрыбная Волга») и разговоров со своими избирателями[41], когда каждый раз приходилось «выслушивать однообразное горе жилищно-паспортное, без всякой, в сущности, реальной возможности помочь… с чувством стыда и отчаяния», будь то в Ярославле или в самой Москве, представавшей, по словам Александра Трифоновича, «подноготной, ужасной».
«Порой кажется, что нет и самой советской власти, или она настолько не удалась, что хуже быть не может, — записывал он после очередного депутатского приема в райсовете (22 февраля 1964 года). — Там она оборачивается к народу, к отдельному человеку с его бедами, муками и томительными надеждами лишь своей ужасной стороной отказов, вынужденных и непрочных обещаний (чтобы только отвязаться); чиновничьим холодом…»
Вопреки непрерывным победным реляциям о достижениях «реального социализма»[42] все яснее обозначалось его подлинное лицо, и Твардовский переживал это в высшей степени трагически.
«Нечего удивляться той мере мирового разочарования в идеологии и практике социализма и коммунизма, какая сейчас так глубока, — если представить себе на минуту повод и причины этого разочарования, — записывает этот искреннейший член партии (10 августа 1962 года). — Строй, научно предвиденный, предсказанный, оплаченный многими годами борьбы, бесчисленными жертвами, в первые же десятилетия свои обернулся невиданной в истории автократией и бюрократией, деспотией и беззаконием, самоистреблением, неслыханной жестокостью, отчаянными просчетами в практической, хозяйственной жизни, хроническими недостатками предметов первой необходимости — пищи, одежды, жилья, огрубением нравов, навыками лжи, лицемерия, ханжества, самохвальства и т. д. и т. п.».
А через три года, вспоминая ленинские слова о том, что Россия выстрадала марксизм «как единственно правильную революционную теорию… полувековой историей неслыханных мук и жертв», поэт горько заключает:
«С тех пор, как были написаны эти строки, прошло сорок пять лет — почти полвека, еще „полувековая история неслыханных мук и жертв“ и т. д.
Страшно подумать, что, выстрадав эту единственно правильную революционную теорию, Россия испытала за этот сорокалетний срок вовсе не единственно правильную революционную практику, стоившую слишком дорого. А теорию тем временем затянуло илом догматики, формализма и гужеедства. Что еще впереди, — кто знает?» (27 мая 1965 года).
«Мне нужно со всем этим развязаться в стихах ли, в прозе», — писал Александр Трифонович в феврале 1958 года после беседы с председателем загорьевского колхоза. Теперь подступала настоятельная необходимость «развязаться» не с одними только деревенскими проблемами, которые были теснейшим образом связаны со всей «историей неслыханных мук и жертв».
Прозаические замыслы поэта перерастали первоначальные рамки, уходя все в большую глубь.