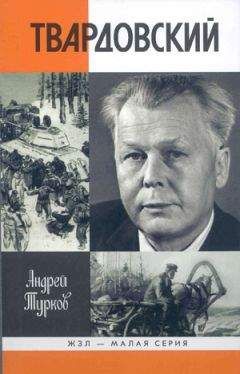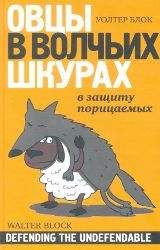Чуть позже Твардовский назовет эти месяцы «годом кризиса, когда конец всем иллюзиям», и четко констатирует:
«Как не вдруг и с каким трудом и торможением изживают себя формы политической жизни, обреченные на слом.
Но наступает момент, когда они уже только по инерции существуют и по инерции обязывают. Пока еще справляют службу по памяти и по книгам, раскрываемым (не глядя) на известных страницах, заляпанных воском и с обтерханными уголками, но уже проповедей не только не произносят, но и не читают „по тексту“. И прихожанам уже наскучило подмечать за ними все их слабости — недостаток благолепия и натурального воодушевления, — они выходят из церкви (или партийного собрания! — А. Т-в) и, надев шапки, говорят и помышляют о своем, житейском, будничном, частном» (запись 9 сентября 1968 года).
И в характерном соседстве с этой записью — восхищение повестью Виктора Лихоносова «На улице Широкой», где «жизнь без „роли парторганизации“, без всего такого», без необходимости «приплетать „руководящую роль“ там, где ее попросту нет».
Твардовский не удерживается, чтобы не заметить, что те, кто «справляет службу», «руксостав» — «это люди ничего не умеющие, ни на что не пригодные, кроме руководства — сверху донизу, — у них ни специальности, ни образования, ни навыков работы, ни привычки читать, не то что писать» (запись 30 января 1969 года).
Сказано отнюдь не в запале; Александр Трифонович еще вернется к данному сюжету и в самом серьезном, аналитическом тоне:
«Люди, которые нынче ведут страну, вступили в строй руководящих людей в пору „вынужденных перемещений“ (времени массовых арестов. — А. Т-в)… и для них без них уже все было решено и представлено как истина в последней инстанции, за которой сила — величайшая и неизменная, — думать было не нужно (да и не безопасно). И так они и держатся этими навыками, апеллируя к прошлому — там было все ясно и хорошо. Но как говорится, „сколько можно“» (запись 18 марта 1969 года).
В такой обстановке и с такими мыслями работает поэт на «приусадебном участке» над новой поэмой. К апрелю 1969 года уже готовы первые главы, которые автор намеревается печатать, хотя они совсем «не ко времени».
Пережитое страной и народом за минувший век было таким горьким, трагическим, сложным, противоречивым, что иные литераторы, не говоря уже о политиках, совсем не прочь, чтобы многое из прошедшего как бы стерлось из памяти.
Твардовскому же, как будет сказано в поэме, напротив, «все былые недомолвки домолвить нынче долг велит»:
А я — не те уже годочки —
Не вправе я себе отсрочки
Предоставлять.
Гора бы с плеч —
Еще успеть без проволочки
Немую боль в слова облечь.
Он снова шел против течения: вокруг усерднейшим образом «стирали»!
Уж на что туманно именовалось в годы «оттепели» происходившее при Сталине, но теперь и стыдливый эвфемизм «культ личности» постепенно исчезает из речей, постановлений и статей. Когда, выступая на очередном писательском пленуме, земляк Твардовского, поэт Николай Рыленков, еще не успев сориентироваться, произнес эти слова, в президиуме ему сделали выговор.
Сходят на нет упоминания о терроре, лагерях, поражениях первых лет войны и тяжких потерях (даже соответствующие главы шолоховского романа в «Правде» не напечатали)[43].
Забыть, забыть велят безмолвно.
Хотят в забвенье утопить
Живую быль. И чтобы волны
Над ней сомкнулись. Быль — забыть! —
негодует поэт.
Когда в открывавшем 1969 год номере «Нового мира» появились его стихи, озаглавленные «На сеновале», никто не знал, что это начальная глава новой поэмы, которая вызовет перепуг в цензуре.
Поэт вспоминает о давней бессонной ночи, проведенной с другом, о взволнованном разговоре юношей, полных искреннего энтузиазма и в то же время наивнейших, еще полудетских упований:
Мы повторяли, что напасти
Нам никакие нипочем,
Но сами ждали только счастья, —
Тому был возраст обучен.
……………………………….
И всласть толкуя о науках,
Мы вместе грезили о том,
Ах, и о том, в каких мы брюках
Домой заявимся потом…
…………………………………………..
…И чтоб загорьевские девки
Глазами ели нас потом,
Неловко нам совали руки,
Пылая краской до ушей…
Теперь, десятилетия спустя поэт усматривает в этом пылком стремлении вдаль из родных мест нечто близкое эгоистическому нетерпению при прощании с матерями; «…когда нам платочки, носочки уложат их добрые руки, а мы, опасаясь отсрочки, к назначенной рвемся разлуке», — горько сказано в цикле «Памяти матери».
Мы не испытывали грусти,
Друзья — мыслитель и поэт,
Кидая наше захолустье
В обмен на целый белый свет.
………………………………………….
…А ты, родная сторона,
Какой была, глухой, недвижной,
Нас на побывку ждать должна.
Жизнь по всем статьям оказалась невообразимо сложнее, чем думалось в юношескую пору.
И невдомек нам было вроде,
Что здесь, за нашею спиной,
Сорвется с места край родной
И закружится в хороводе
Вслед за метелицей сплошной…
И ранние голоса юных (под стать самим героям) петушков, представляется ныне поэту издали пережитого, «как будто отпевали / Конец ребячьих наших дней».
И где, кому из нас придется,
В каком году, в каком краю
За петушиной той хрипотцей
Расслышать молодость свою.
Тут вспоминается встреча с другом в книге «За далью — даль»…
Есть в этой главе, «Перед отлетом» (которой было суждено годами печататься как отдельное стихотворение о том, как думалось и мечталось «жизнь тому назад»), строки, вобравшие в себя весь драматический опыт, все суровые уроки пережитого:
Готовы были мы к походу.
Что проще может быть:
Не лгать,
Не трусить,
Верным быть народу,
Любить родную землю-мать,
Чтоб за нее в огонь и в воду
А если —
То и жизнь отдать.
Что проще!
В целости оставим
Таким завет начальных дней,
Лишь про себя теперь добавим:
Что проще — да.
Но что сложней?
Остальным главам не суждено было увидеть свет при жизни автора.
«Это на съедение», — трезво сказал Твардовский, прочитав в редакции главу «Сын за отца не отвечает», дышавшую опаляющим автобиографизмом.