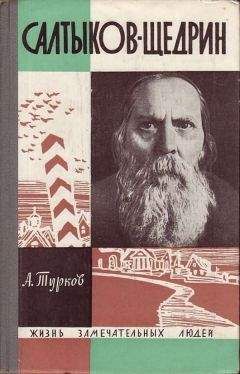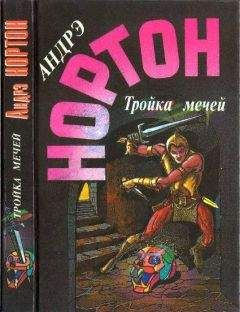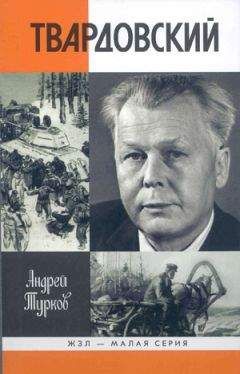При всей исторической прогрессивности поддержки, оказанной Россией славянским народам в их борьбе с турецким игом, нельзя забывать, что самодержавие преследовало при этом весьма определенные цели.
В войне царизму мерещился спасительный выход из всех трудностей.
Гром побед заглушил бы, по мысли мечтавших о войне, глухой ропот и стоны, слышавшиеся по всей стране после голодных лет, и отбил бы охоту внимать «россказням» пропагандистов. А окажись в руках самодержавия Константинополь и проливы, отечественная буржуазия охотно извинила бы все внутренние упущения правительства в предвидении открывающихся коммерческих выгод.
Царское правительство еще колебалось и лавировало, опасаясь встретить противодействие своим планам со стороны других великих держав, еще только под рукой помогало славянам в борьбе с Турцией, а печать всех оттенков уже звала к прямой поддержке противников Турции. Общему настроению поддался даже Елисеев. Находившийся вместе с ним в немецком курортном городке Эмсе Достоевский ядовито рассказывал, как «старый отрицатель» носился с мыслью отслужить молебен за успех черногорского оружия. Несколько статей Елисеева влились в согласный хор консервативных и либеральных публицистов.
Это было явным отступлением от заветов «Современника», которым следовал журнал. В своих спорах с рьяными славянофилами 60-х годов вроде В. Ламанского и И. Аксакова Н. Г. Чернышевский иронически замечал, что те «хлопочут об отыскании нам вотчинных прав на Севилью и Кордову, исконные славянские города». По его мнению, в случае победы над Турцией «заботы о сохранении нашей власти над Балканским полуостровом еще меньше прежнего оставят нам времени устраивать свои дела» и «мы обеднеем от нового завоевания». Иными словами, военное торжество царизма затормозит освободительное движение в самой России.
Таковы были «предания «Современника», и в первый же год существования «Отечественных записок» Щедрин в полном согласии с Чернышевским высказался в одной из рецензий по поводу деятельности Славянского благотворительного общества:
«…такое пламенное сочувствие к интересам и судьбе других наций не указывает ли… на полное внутреннее процветание нашего отечества, готового при первом востребовании поделиться своими избытками со всяким нуждающимся и обделенным на жизненном пире».
В 70-х годах даже в либеральном лагере находились люди, которые ощущали фальшь внезапного «освободительного» ража, обуявшего «образованное» общество. К. Д. Кавелин писал 13 июля 1876 года М. М. Стасюлевичу:
«Думаю и даже имею наглость быть убежденным, что прежде чем создавать счастие и благоденствие других народов, следует устроить счастие и благоденствие своих».
Щедрин не ограничился беспомощными сетованиями в келейных разговорах и переписке. Продолжая цикл «В среде умеренности и аккуратности», сатирик посвятил «славянолюбам» высшего общества очерк «День прошел — и слава богу!».
Уже в одном из писем к Некрасову, уехавшему лечиться в Ялту, Михаил Евграфович отметил, что «под шумок» воззваний к борьбе за свободу славян комитет министров еще больше усилил власть губернаторов, наделив их правом издавать обязательные постановления.
«…Серьезность минуты не мешает вести борьбу с нигилизмом, — многозначительно подчеркивал он и в письме к П. В. Анненкову. — Политические процессы следуют одни за другими, не возбуждая уже ничьего любопытства, и кончаются сплошь каторгою…»
«Отвлекающий» характер царской политики был совершенно ясен писателю, и картины турецких злодейств не могли укрыть от его глаз зрелище изуверской расправы самодержавия с цветом русской молодежи.
Для большинства привилегированного общества трагедия освободительной борьбы славянства была просто средством убить время, поупражняться в красноречии, симулировать «полезную» деятельность и… отвернуться от серьезной работы мысли. В очерке «День прошел — и слава богу!» есть любопытная деталь: когда рассказчик со своим другом Глумовым спешат в клуб, где только и разговору, что о «братьях славянах», Петербург живет своей обычной, суетливой жизнью — «только книжные лавки смотрели уныло, почти выморочно: очевидно, что публика, обрадованная, что славянский вопрос освобождает ее от обязанности читать что-либо, кроме газет, позабыла даже дорогу к ним…»
Это явление — падение подписки на журналы и спроса на книги и в то же время бурный рост популярности шовинистической газеты «Новое время» — отмечал Щедрин и в письмах. Оно встревожило его не только как писателя и редактора журнала, но и как общественного психолога. Не случайно и Елисеев вскоре раскаялся в своих воинственных статьях по славянскому вопросу и убедился, что «настроение, возбужденное в публике славянскою войною, вовсе не благоприятно тем идеям, которые наш журнал стремится насадить и утвердить…».
Если сначала генерал Черняев, который отправился командующим в Сербию, рисовался многим чуть ли не новым Гарибальди и Щедрин, приходивший в ярость от этого сопоставления, оказывался в одиночестве, то со временем авантюристические действия и интриги Черняева обнаружились во всей своей неприглядности. Его поведение в Сербии лишь в наиболее откровенной форме выказывало истинную сущность «освободительных» поползновений самодержавия. И Щедрин был прав, когда писал Анненкову: «…Черняев с своими добровольцами разъясняет перед лицом Европы, что такое господа ташкентцы…»
Интересно, что Лев Толстой, весьма далекий от «Отечественных записок» и от самого Щедрина, во многом сходился с ним в оценке экспедиции Черняева и отношения светского общества к славянскому вопросу вообще.
«Все то, что делает обыкновенно праздная толпа, убивая время, делалось теперь в пользу славян, — говорится в последней части «Анны Карениной». — Балы, концерты, обеды, спичи, дамские наряды, пиво, трактиры — все свидетельствовало о сочувствии к славянам».
Щедринский Глумов упрашивал своего словоохотливого приятеля: «Уж сделай ты для меня милость: придержи язык за зубами! Теперь ведь многие около славян-то прохаживаются! Скажешь слово не по шерсти — разорвут!» В свою очередь, и в «Анне Карениной» скептически настроенные Катавасов и старичок военный помалкивают, «по опыту (курсив мой. — А. Т.) зная, что при теперешнем настроении общества опасно высказывать мнение, противное общему, и в особенности осуждать добровольцев…»
Щедрин как тип добровольца выводит памятного читателям по «Губернским очеркам» Живновского, который рыскал повсюду в поисках злачного места. У Толстого же среди добровольцев фигурируют хвастливый, промотавшийся купец, отставной офицер, производивший «неприятное впечатление» — «как видно, человек, попробовавший всего», и пожилой недоучка-юнкер.