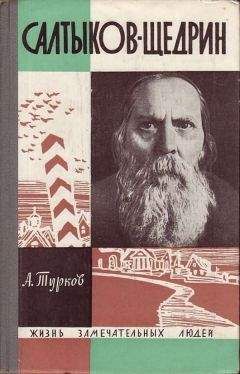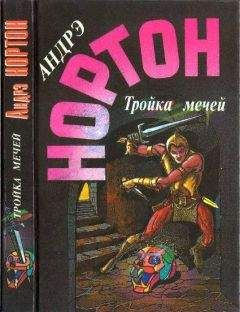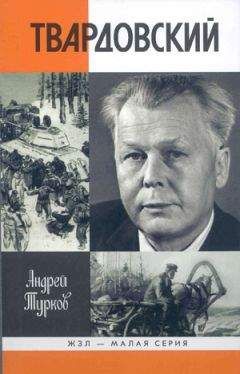Щедрин как тип добровольца выводит памятного читателям по «Губернским очеркам» Живновского, который рыскал повсюду в поисках злачного места. У Толстого же среди добровольцев фигурируют хвастливый, промотавшийся купец, отставной офицер, производивший «неприятное впечатление» — «как видно, человек, попробовавший всего», и пожилой недоучка-юнкер.
В черновом варианте романа, когда еще не было и слуху о черняевской экспедиции, а Вронский назывался Гагиным, его судьба после смерти Анны была намечена короткой фразой: «…Гагин в Ташкенте». В окончательном варианте Ташкент заменен Сербией, но эта замена ничего, в сущности, не меняет: не все ли равно, куда едет Вронский «развалиной», чтобы как-нибудь избыть ненужную, постылую жизнь? Он тоже своего рода авантюрист, хотя ищет не денег, а всего лишь смерти, — один из тех «потерявших общественное положение, бесшабашных людей, которые (по словам толстовского Левина. — А. Т.) всегда готовы — в шайку Пугачева, в Хиву, в Сербию…».
Заключительная часть «Анны Карениной» настолько шла против течения, что Катков отказался ее печатать в своем журнале (должно быть, при этой вести Лев Николаевич пожалел о том, что предпочел «Русский вестник» «Отечественным запискам», несмотря на предложение Некрасова!).
Однако Л. Толстой лишь постепенно пришел к отрицательному воззрению на «славянскую лихорадку». Щедрин же оставался неколебим с самого начала. «Ваш взгляд на дело, по моему мнению, совершенно правилен», — писал он еще 8 сентября 1876 года поэту А. М. Жемчужникову, который стоял в славянском вопросе примерно на одних с ним позициях.
Рисуя в очерке «День прошел — и слава богу!» тень Булгарина, который «явился порадоваться на потомков своих», сатирик недвусмысленно намекал на то, что спекуляция на патриотизме и славянском братстве преследует цель возбудить в читателях шовинистические и ретроградные настроения. Он не отступился от своей оценки и после того, как (24 апреля 1877 года) Россия объявила войну Турции и высказываться приходилось с удвоенной осторожностью.
Бездарные полководцы из царствующей семьи с щедростью игрока, кидающего чужие деньги, оросили кровью предместья Плевны и Шипкинский перевал.
И бойка ж у нас дорога!
Так увечных возят много,
Что за нами на бугре,
Как проносятся вагоны,
Человеческие стоны
Ясно слышны на заре, —
писал Некрасов в последнем опубликованном при его жизни стихотворении. Но ничто не могло помешать царю и в армии вести обычный, заведенный в Петербурге порядок жизни, с той лишь разницей, что теперь он ездил завтракать на позиции (наиболее часто посещавшийся им под Плевной редут так и прозвали «Закусочным»). Его брат, главнокомандующий, и другие великие князья действовали так же вяло, как на маневрах в Красном Селе. Описывая в своем дневнике одну из их проволочек, военный министр Д. А. Милютин иронически перечислял ее причины:
«Завтра — воскресенье, ergo[24] необходимо выстоять обедню; на другой день — понедельник, дурной день, да к тому же 1-е августа, а следовательно, надобно опять молиться и вывести гвардейскую роту в церковный парад! — И вот из-за каких пустых поводов отлагается день за днем столь необходимое подкрепление войск, на позиции, которая ежедневно может быть атакована несравненно превосходными силами противника».
Зато когда Плевна была, наконец, взята, постоянный посетитель Закусочного редута кокетливо спросил у приближенных, заслужил ли он золотое оружие; щедрые награды за свои «ратные труды» получили и все прочие воины из царствующей династии.
Золотую табакерку получил Суворин за слезливый рассказ о том, как царь плакал над раненым солдатом.
Щедрин иронически поздравил редактора «Нового времени» с тем, что он становится союзником Каткова.
— Что ж, и прекрасно! — хладнокровно отвечал Суворин.
Он чувствовал себя на гребне быстро подымающейся волны. Его разбитная и вместе с тем угодливая газета пользовалась все большим успехом у читателей.
Так ловко летает по залу процветающей ресторации расторопный половой, всюду успевая, перед всеми лебезя, рассыпая направо и налево:
— Сию минуточку-с!
— Чего изволите?
— Исполним в самолучшем виде-с!
И сыплются на проворного малого щедрые чаевые.
Как его не любить — ведь он такой же ловкач, как и его клиенты, разбогатевшие на выгодных подрядах и спекуляциях, на дешевом мужицком труде и на солдатской крови.
В цикле «В среде умеренности и аккуратности» Щедрин вывел Балалайкина, сбывающего «нашим доблестным войскам» тухлую кильку. А жизнь как бы соперничала с этой злой сатирой: в «Хронике новых изобретений» «Отечественные записки» сообщали о солдатских сухарях, поставлявшихся князем Урусовым и Перевощиковым; в эти сухари добавляли песок и глину, а стоили они почти вдвое дороже обыкновенных!
Под сенью патриотических фраз процветает совершеннейшее бесстыжество. «Горе той стране, — восклицает один из героев Щедрина, — в которой шайка шалопаев во все трубы трубит: государство, mon cher! — c'est sàcrrré![25] Наверное, в этой стране государство в скором времени превратится в расхожий пирог!» Крупный делец, позднее ставший министром финансов, И. А. Вышнеградский, даже по воспоминаниям консервативно настроенных современников, «склонен был смотреть на государство как на частное предприятие, как на компанию на акциях, лишь бы дивиденд выходил крупным».
Поддерживаемые круговой порукой «патриотического воровства», расхитители доходят до совершенной наглости. Так, Балалайкин убежден, что возмездие его минует: «Вот если бы я распространял превратные идеи — ну, тогда не спорю…»
Глумов справедливо полагает, что Балалайкина нелепо тащить в участок: оттуда его выпустят (чего, разумеется, не сделают с пропагандистом «превратных идей»). Поэтому он мастерит для пройдохи самодельную петлю, но Балалайкин выскальзывает из нее, так же как впоследствии увиливает и от уголовного наказания и пожинает плоды своих коммерческих затей. «Погодите! — предрекает он, — вот кончится война, и прибудут в Петербург настоящие негодяи… дельцы, хотел я сказать… Тогда — увидите!»
Сочувствие к народу, бескорыстно, ради освобождения братской страны, проливавшему свою кровь в то время, как другие наживают капитал, борется в душе сатирика с горьким упреком этому же народу и прогрессивной интеллигенции. Диалог между рассказчиком и Глумовым отражает эту работу мысли:
«— Вот и скажет историк: на основании таких-то и таких-то данных я имею полное право заключить, что сия эпоха была эпохой распутства — всеобщего! Все, значит, без исключения… Что ж! Коли хочешь, оно ведь и правильно!