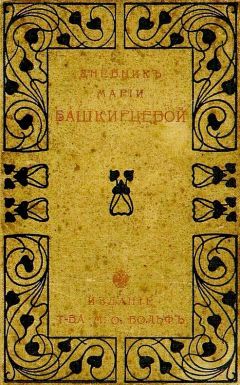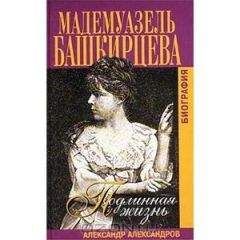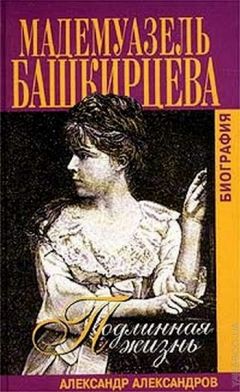Лошадь становилась на дыбы, останавливалась, горячилась, и Капитаненко, среди общего смеха, объявил, что мне можно ездить на ней… через три месяца. Я смотрела на вздрагивавшее животное, кожа которого ежеминутно покрывалась жилами, как поверхность воды покрывается рябью. Я говорила сама себе: «Ты покажешь, что храбрость твоя была напускная, дитя мое, и «крокодилам» нечего будет о тебе рассказывать. Ты боишься? Тем лучше: храбрость состоит не в том, чтобы делать то, чего другие боятся и что вам не страшно; настоящая, единственная храбрость — это заставить себя сделать то, что страшно.
Перескакивая через ступеньки, я поднялась по лестнице, надела черную амазонку, черную бархатную шапочку и сбежала вниз для того, чтобы подняться… на лошадь.
Я объехала шагом вокруг газона. Капитаненко ехал рядом на другой лошади. Чувствуя, что глаза присутствующих направлены на меня, я вернулась к крыльцу, чтобы успокоить их. Отец сел в кабриолет с одним из молодых людей; другие поместились в тройке князя, и я поехала по большой аллее в сопровождении всех этих, экипажей. Не знаю как это случилось, но не делая никаких усилий, я поехала галопом, сперва мелким, потом крупным, затем рысью и вернулась, к экипажам, чтобы слышать похвалы.
Я была в восторге, и мое раскрасневшееся лицо, казалось, метало искры, как и ноздри лошади. Я сияла от радости; на этой лошади еще никогда не ездили верхом.
Вечером пускали фейерверк, дома были иллюминованы, и со всех сторон красовался мой вензель. Крестьяне плясали под окнами под звуки деревенской музыки.
Стол накрыли на другом конце, дома, и нам пришлось проходить через толпу любопытных.
— Точно крестный ход, — сказал женский голос в толпе, — а вот и плащаница.
Мы, в самом деле, были освещены факелами, и Мишель нес мой шлейф, а в страстную пятницу носят полотно с изображением Спасителя.
Мишель выкидывал свои гимнастические штуки, и деревенские мальчишки смотрели на него с удивлением, уцепившись за веревки и качели, что напоминало повешенных, как они изображены на старинных гравюрах.
Эти славные люди окружили меня; я напрасно называю их славными, так как мужчины и женщины, как придворные, говорили мне комплименты в таком роде:
— Лошадь хороша, а наездница-то еще лучше.
Знаете, я очень люблю быть запанибрата с народом; я говорила со всеми и еще немного, я пустилась бы плясать. Пляска наших крестьян, с виду покорных и простодушных, но на деле хитрых как итальянцы, — пляска их настоящий парижский канкан самого соблазнительного свойства. Ног они до носа не поднимают, да это и некрасиво, но мужчина с женщиной кружатся, приближаются друг к другу, преследуют друг друга, и все это сопровождается такими движениями, вскрикиваниями и улыбками, что дрожь пробегает по телу.
Девушки пляшут мало и очень просто. Им «поднесли» и, покинув этих любезных дикарей, я хотела идти спать; по на лестнице я остановилась, как накануне вечером, и молодые люди собрались на ступеньках. Шоколад пропел нам, к моему великому удовольствию, ниццскую песню.
За пением следовала музыка. Я извлекала из скрипки самые невозможные звуки, и эти пронзительные, серьезные, крикливые, неясные звуки смешили меня до слез, а от моего смеха с этим ужасным аккомпанементом помирали со смеху другие, даже Шоколад.
Четверг, 7-го сентября (26-го августа). Будничный наряд хохлушки состоит из холщовой рубашки с широкими, оттопыривающимися рукавами, расшитыми красным и синим, и из куска черного крестьянского сукна, которым они завертываются, начиная с пояса; эта юбка короче рубашки, так, что виден вышитый низ ее сукно сдерживается цветным шерстяным поясом. На шею надевается множество бус, а голова повязывается лентой. Волосы заплетены в одну косу, в которую вплетается одна или несколько лент.
Я послала купить себе такой костюм, надела его и пошла по селу в сопровождении молодых людей. Крестьяне не узнавали меня, так как я была одета не барышней, а крестьянской девушкой, женщины одеваются иначе. На ногах у меня были черные башмаки с красными каблуками.
Я кланялась всем и, дойдя до шинка, села у двери.
Отец был удивлен, но… в восторге.
— Все к ней идет! — воскликнул он.
И, посадив нас всех в тележку, он начал катать нас по улицам деревни. Я громко смеялась, к великому изумлению добрых людей, которые никак не могли понять, что это за девушка катается со «старым барином» и «молодыми господами».
Успокойтесь, папа не стар.
Китайский тамтам, скрипка и шарманка увеселяли общество.
Мишель ударял в тамтам, я играла на скрипке (играла! Господи Боже мой!), а шарманка играла одна.
Вместо того, чтобы лечь рано по своему обыкновению, мой родитель оставался с нами до полуночи. Если я не одержала других побед, то одержала победу над отцом. Когда он говорит, он ищет моего одобрения, слушает меня со вниманием, позволяет мне говорить все, что угодно о его сестре Т… и соглашается со мною.
Шарманка — его подарок княгине; мы все подарили ей что-нибудь — сегодня ее именины. Лакеи с радостью служат мне и очень довольны, что избавлены от «французов». Я даже обед заказываю! А мне прежде казалось, что я в чужом доме, я боялась установившихся привычек и назначенных часов.
Меня ждут также, как в Ницце, и я сама назначаю часы.
Отец обожает веселье и не приучен к нему своими.
Пятница, 8-го сентября (27 авг.). Проклятый страх, я тебя преодолею! Не вздумала ли я бояться ружья? Правда, оно было заряжено, и я не знала сколько Поль положил пороху и не знала самого ружья; оно могло бы выстрелить, и это была бы нелепая смерть или изуродованное лицо.
Тем хуже! Трудно сделать только первый шаг; вчера я выстрелила на 50-ти шагах и сегодня стреляла без всякого страха; кажется, боюсь ошибиться, я попадала всякий раз.
Если мне удастся портрет Поля, это будет чудо, так как он не позирует, и сегодня я рисовала четверть часа одна, то есть не совсем одна, так как против меня сидел Мишель, который имеет смелость быть в меня влюбленным.
Так прошло время до девяти часов. Я тянула, тянула, тянула время, видя нетерпение отца. Я знала, что он ждет только того, чтобы мы ушли из гостиной для того, чтобы убежать в лес… как волк.
Я снова собрала свой придворный штат на лестнице… Я люблю лестницы — по ним поднимаешься вверх. Паша хотел уехать завтра, но я так старалась удержать его, что он вероятно останется; было бы благоразумнее уехать, так как для двадцатидвухлетнего деревенского жителя и мечтателя любить меня, как сестру, опасно.
Я держу себя с ним и с Мишелем как нельзя лучше, и он меня очень любит. Но с глупыми мужчинами я сама глупею; я не знаю, что сказать, чтобы им было понятно, и боюсь, что они могут заподозрить, что я в них влюблена. Например, этот бедный Гриц: он думает, что все барышни хотят выйти за него замуж, и в каждой улыбке видит ловушку и покушение против его холостой жизни…