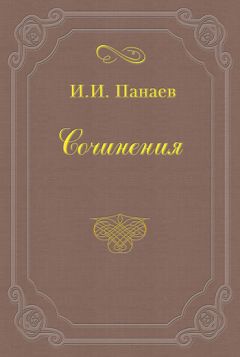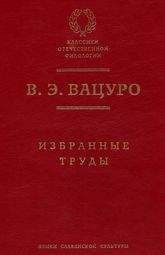– Я с большим удовольствием выпью за ваше здоровье, г. Панаев, – отвечал мне Шевырев, протягивая свой бокал и чокаясь с моим бокалом…
– За Петербург! за Петербург! – кричали юные западники, и даже Кетчер заорал громче всех – «за Петербург!»– только в контру Шевыреву, потому что Кетчер не терпел Петербурга так же, как и Шевырев, хотя и смеялся над славянофилизмом…
Западники обнаружили сильное желание развернуться, но Грановский смягчил их своим кротким и умоляющим взглядом, да и сами они поняли, что Грановскому было бы крайне неприятно, если бы они пиршество, данное в честь его, превратили в два враждебные лагеря.
Обед кончался. Уже многие встали с своих мест. Тосты, впрочем, продолжались. Славянофилы обнимались с западниками. Зала гудела от говора, от времени до времени раздавался дикий хохот Кетчера и его крики: «Пей же, пей!»
Шум еще увеличился, когда все встали из-за стола и смешались…
К. Аксаков, с которым я не видался более четырех лет (он жил в это время – с семейством в своей подмосковной) встретил меня на этом обеде с явною холодностью и избегал разговора.
Я спросил его: – какая причина этому?..
– Лично против вас я ничего не имею, – откровенно отвечал мне Аксаков, пожимая мою руку: – но, – прибавил он с добродушною суровостию, – к вам как к петербургскому литератору я не могу питать никакой симпатии. Ваш Петербург извращает людей… Что сделали вы с Белинским? Можно ли было ждать, чтобы после наших дружеских отношений он позволил себе против меня такие выходки…
Какие выходки – я не знал; но я возразил Аксакову, что Белинский восставал не лично против него, а вообще против всей его партии, против «Москвитянина» в особенности, который зацеплял его очень неделикатно.
Но Аксаков горячился и отзывался о Белинском с желчью.
Примирение на этом обеде славянофилов с западниками со стороны большинства было, может, искренно, но непродолжительно. Полемика между двумя этими партиями сделалась еще ожесточеннее прежнего.
Над этим минутным и неудавшимся примирением очень справедливо подсмеивался Белинский.
– Дети, дети! – говорил он о Грановском и Искандере: – им только бы придраться к какому-нибудь случаю, чтобы лишний раз выпить и поболтать… Какое это примирение? И неужели Грановский серьезно верит в него? Быть не может!.. Сколько ни пей и ни чокайся, это не послужит ни к чему, если нет в людях никакой точки соприкосновения, никакой возможности к уступке с той или с другой стороны. Для меня эти лобызания в пьяном виде – противны и гадки…
Белинский изъяснялся еще резче в своих письмах к московским друзьям по поводу этого мнимого примирения.
Примирительный обед так раздражил его, что после него он стал писать в «Отечественных записках» против славянофилов еще злее.
Грановскому сначала это было неприятно. По мягкости своего характера он, кажется, полагал, что дурной мир лучше доброй ссоры, и даже старался иногда оправдывать перед своими друзьями Шевырева, своего непримиримого врага…
Но когда появились бессильные и гадкие стихи Языкова под заглавием: «Не наши», в которых прежний поэт разгула и свободы, сделавшийся, как выразился очень удачно Искандер, славянофилом по родству (Хомяков был женат на его сестре), намекал на Чаадаева – как на отступника, на Грановского – как на лжеучителя, губящего юношество, на Искандера – как на лакея, щеголяющего западной ливреей; на всех разделяющих их идеи – как на изменников отечества, – при такой выходке даже миролюбивый и кроткий Грановский вышел из себя.
– Нет, господа, – говорил он, – я каюсь в своем глупом заблуждении. Белинский тысячу раз прав. Примирение с господами, действующими против нас такими средствами, глупо и нелепо.
Впрочем, благороднейший и честнейший из славянофилов К. Аксаков с негодованием, как известно, протестовал против стихотворного доноса болезненного поэта, выживавшего из ума и пережившего свой поверхностный талант.
Ссоры с славянофилами, обнаруживавшиеся желчной полемикой в журналах («Москвитянине» и «Отечественных записках») и оканчивавшиеся всегда торжеством западной партии, которой явно сочувствовала читающая публика, – были все-таки не по сердцу Грановскому. Многих из славянофилов Грановский и уважал и любил. Он отзывался постоянно с увлечением о благородстве и честности К. Аксакова и братьев Киреевских и отдавал полную справедливость блестящим способностям и остроумию Хомякова.
Всепримиряющее, нежное свойство души Грановского, ровность и приятность его обращения со всеми, – его вкрадчивость, сказал бы я, если бы с этим словом не соединялась мысль о хитрости, несовместной с его характером, – все это вместе постепенно привлекало к нему различные слои московского общества и способствовало к распространению его популярности… Грановский был, между прочим, очень дружен с П. Я. Чаадаевым, но об этом я буду, иметь ещё случай говорить впоследствии. За Грановским все гонялись, все искали его знакомства, его внимания, все дорожили его мнением и впоследствии на связи с ним основывали свою известность. Такое искание его, такое внимание к нему отвлекало его от занятий, не давало ему времени сосредоточиваться для них; но Грановский, по мягкости своей, не мог отказаться от общественных связей, от своего расширявшегося знакомства. Он нередко даже исчезал на несколько дней из своего кружка и на насмешливые упреки своих друзей пожимал плечами и, улыбаясь, отвечал:
– Ну, что ж делать?.. Если я вижу, что огорчу людей своим отказом, у меня недостает духу отказываться.
Каролина Карловна Павлова одно время с свойственною ей бойкостию завладела было совсем Грановским недели на две… Она перечитала ему все свои поэмы и стихотворения, и Грановский, очень хорошо умевший отличать громкие стихотворные фразы от истинной поэзии, наделенный большим эстетическим вкусом, увлекся было реторикой Павловой и начал через меру восхвалять ее стихи. Приятели подсмеивались над ним, особенно Белинский. Грановский сам чувствовал, что он неправ.
– Ну, если в ее стихах нет поэзии, – возражал он, – по крайней мере нельзя же отказать ей в том, что у нее стих необыкновенно звучный…
– Да кто же не пишет теперь звучных стихов? – перебили его.
– Вот и он! – прибавил Боткин, указывая на меня, и прочел ему по этому случаю мою пародию на Павлову:
Она все думала, что мысль и вдохновенье
Достались ей в удел;
Что рождена она для песнопенья,
Для высших дел;
Что ей и стих и смелое созвучье
В ущерб другим даны;
Что нет ее созданий в мире лучше… и т. д.
Пародия эта очень понравилась Грановскому, он смеялся и с этих пор уже не вступался за поэзию автора «Кадрили». После напечатания некоторых глав из этой поэмы он даже сам подсмеивался над своим увлечением.