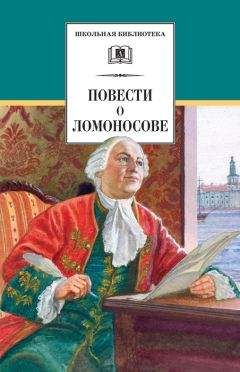Непрерывный гул орудийных выстрелов стоял над полем, окутанным дымом.
– Ваше величество, нас догоняют! – кричал де Катт, шпоря коня.
Король оглянулся. За ним неслось с десяток казаков, и впереди, размахивая арканом, скакал огромный казак в шапке с волчьим хвостом. Лицо его было изуродовано шрамами, глаза сверкали. Они пронеслись мимо королевского шатра. Несколько казаков соскочили с коней, бросились туда, остальные трое или четверо продолжали погоню. Король боялся оглянуться, ему чудился свист аркана. «Они поймают меня в петлю, как зверя на охоте…»
Неожиданно из-за леса выскочило несколько десятков «черных гусар» во главе с ротмистром Притвицем. Казаки придержали коней, выхватили сабли…
Два часа спустя король Фридрих в грязном деревенском трактире писал письмо брату:
«Я не переживу этого. У меня нет средств к спасению. Мне кажется, все погибло… Никто не может представить себе ужасный огонь русской артиллерии!..»
Как это ни странно, но Фридриху Прусскому, который до конца жизни не мог забыть позорного поражения под Кунерсдорфом, так и не пришла в голову мысль, что решающую роль в этой битве сыграла стойкость русского солдата.
Салтыков, в своем стареньком белом мундире, покачивая головой, стыдил атамана Краснощекова:
– Ну что, упустили?
Краснощеков вздохнул так, что даже Салтыкову стало его жалко:
– Упустили…
Салтыков помолчал, потом сказал:
– Да, тяжелая была баталия!
Потом он, кряхтя, подсаживаемый адъютантами, сел на свою серую лошадь и медленно двинулся по тропинке в гору, туда, где белела палатка главнокомандующего.
К нему подъехал штабной офицер.
– Ваше сиятельство, прикажете приготовить фельдъегеря для отправки реляции в Санкт-Петербург?
Старик устал и думал о том, что хорошо бы раздеться, лечь на походную койку и поспать час-другой. Но он понимал, что этого делать нельзя, и, выпрямившись в седле, сказал:
– Найти одного из офицеров, отличившихся в баталии, и обеспечить ему смену лошадей по всему пути. Надобно понимать, что виктория сия не токмо принесет великую радость народу российскому, но и во всей Европе вселит надежду на мир.
Иван Иванович Шувалов дочитал реляцию. Елизавета Петровна поднесла платок к глазам, потом, не сдерживаясь, заплакала громко, а потом сказала, виновато улыбаясь:
– Сие я от счастья. Спасена честь России…
Иван Иванович растроганно воскликнул:
– Не токмо спасена, но и на весь мир Россия возвеличена! Артиллерия же наша судьбу всей баталии решила!
Елизавета Петровна повернулась к Петру Ивановичу Шувалову:
– Спасибо тебе, Петр Иванович, недаром твои вензеля на сих пушках.
Петр Иванович покряхтел:
– Ваше величество! Вензеля-то мои, да пушки Данилова, Нартова, Мартынова, и сам Михайло Васильевич Ломоносов великое попечение о сем деле имел…
Разумовский покачал головой:
– Що пушки там попрацовали[59] добре – то верно, тильки судьбу баталии не они решили. Решил ее солдат с ружницею, вот кто…
Императрица задумалась, а потом сказала:
– Жалко, я хворая стала, принять Ломоносова не могу. Иван Иванович, увидишь его, скажи, что дочь Петра Великого благодарит его от всей души.
Но Ломоносову не нужно было никакой благодарности. Его сердце и так было переполнено радостью и гордостью, ведь победа над прусской военщиной во главе с Фридрихом означала победу не только России, но и ее союзников – Франции, Швеции, Австрии. В этой победе он видел историческую справедливость, восклицая:
– Нам правда отдает победу!
И он славил Салтыкова, который был еще сподвижником Петра, и доблесть русских солдат, сломивших коварного, надменного врага.
…Стремится сердце Салтыкова,
Дабы коварну мочь сломить.
Ни польские леса глубоки,
Ни горы Шлонские высоки
В защиту не стоят врагам…
Бегущих горды пруссов плечи
И обращенные хребты
Подвержены кровавой сечи.
Главы валятся, как листы.
В то же время он видел в победе русского оружия над прусской военщиной залог установления мира в Европе. Борьба за мир в Европе – вот цель России.
Российска тишина пределы превосходит
И льет избыток свой в окрестные страны.
Воюет воинство твое против войны;
Оружие твое Европе мир приводит.
Глава одиннадцатая
«Я ЕСМЬ ГАЗЕТ ГРЕМЯЩИЙ…»[60]
Россия напрягалась из последних сил, чтобы победоносно закончить войну. Народ нес великие жертвы, но превозмогал лишения. Седьмой год шел набор рекрутов в деревнях, отбирался почти весь урожай, иногда прямо с полей реквизировались кони и скот для армии. В стране было 60 миллионов рублей в обращении – монетой 12 разных чеканок и разной цены. Императорская статс-контора имела на 17 миллионов рублей неоплаченных обязательств. Деньги падали в цене, продукты исчезали, даже соль достать было трудно. Многие лавки не открывались совсем, другие торговали полдня.
Туманный сумрак осеннего петербургского утра застилал улицы. На пустую площадь близ Гостиного Двора вышел заспанный сбитенщик. Зевнул, перекрестил рот, оглянулся; навстречу ему шел, меся лаптями грязь, мужичонка в продранной домотканой рубахе и круглой шляпе, с топором за поясом.
– Почем сбитень?
Сбитенщик задумался, почесал голову.
– Да уж и не знаю, почем теперь брать. Три копейки кружка.
Мужик покачнулся, взмахнул руками.
– Да я вчера брал по копейке!
Сбитенщик усмехнулся:
– То вчера, а то сегодня!
Мужик взглянул на него со злобой, дрожащими руками вынул из-за пазухи тряпицу, отсчитал три копейки.
– На, жри!
Опрокинул в рот глиняную кружку горячего сбитня, пошел в переулок по дворам.
– Кому дрова рубить, колоть?
Из окна маленького домика выглянула заспанная женская голова в чепце.
– Эй, мужичок, почем возьмешь за день?
Мужик обернулся.
– Три гривны*.
Голова отпрянула от окна.
– Креста на тебе нет, третьего дня гривну брали!
– То третьего дня, а то теперь.
И мужичок зашагал дальше.
Никто не знал, сколько за что брать и что будет с ними завтра.
Война всем несла разорение и горе. Там осталась вдова без мужа, там мать без сына, тот потерял имение, этот был без работы.
Теперь уж вельможа просыпался сумрачный; и чиновник шел в присутствие, поеживаясь от холода в продранной, нечиненой шинельке; и купец, почесывая голову, стоял в пустой лавке; и крестьянин, глядя на последнюю полудохлую лошаденку, еще не отобранную по реквизиции, уныло плелся, подтянув живот кушаком, пахать тощую землю. Всех поддерживала только надежда, вера в то, что завтра будет лучше.