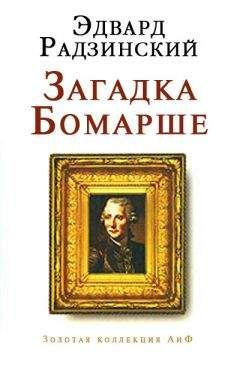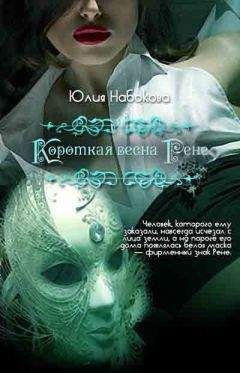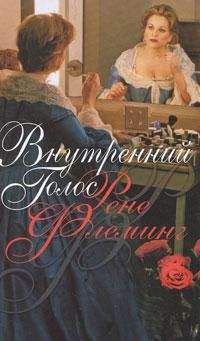Шарль Анри вернулся только на рассвете. Шел шестой час утра 16 октября. Палач был бледен и очень устал.
«Приговорили, – сказал он хрипло. – Одевайтесь, сейчас поедем».
Прищурившись, он молча смотрел, как я переодевался в платье помощника. На черном одеянии были видны плохо замытые пятна. Я хотел спросить, но его усмешка заставила меня замолчать.
«Как правило, зрители требуют показать им отрубленную голову. Иногда я это доверяю помощнику… моему сыну. Он еще молод, не очень аккуратен и когда обносит эшафот…» – сказал Сансон и замолчал.
Я надел маску палача, и наклеенная бородка, в точности как у его брата, торчала из-под маски. Его брат, «Мсье де Дижон», также отправился с нами. Он должен был оставаться в карете, пока мы будем внутри тюрьмы, и подменить меня уже на пути к эшафоту.
Чтобы не будить жену Шарля Анри, мы вышли на улицу через подвал. Стены подвала мерцали в пламени свечи – они были увешаны мечами палачей Сансонов.
Должность палача передавалась в семье по наследству, и Сансоны занимали ее чуть ли не с начала XVII века. Почти двести лет они передавали своим детям свои мечи. «Как короли – свои скипетры», – шутил Шарль Анри.
Но нынче палач отправлялся из дома налегке – не то что раньше, когда он вез с собой два меча (если первый не справлялся с головой, в работу вступал другой). Скольких мучений избегли теперь и осужденный, и палач! Всем помогла гильотина – законное дитя нашего века, века технического прогресса…
Был ранний час, но били барабаны – это собирались на казнь отряды Национальной гвардии. И на улицах уже появилось много людей – боялись пропустить представление, хотели занять лучшие места.
По дороге Сансон рассказал мне то, что услышал в здании революционного Трибунала, когда получал инструкции.
Они приговорили ее, естественно, единогласно – под радостные крики и одобрительные овации зала.
Она выслушала приговор совершенно спокойно и, не сказав последнего слова ни судьям, ни публике, молча пошла к дверям. В черном платье вдовы она шла мимо торжествующих с высоко поднятой головой. Она показала им, что такое истинная королева…
В Консьержери ее привезли в карете в четыре часа утра.
Она очень устала – все заседания суда шли с раннего утра до позднего вечера. У нее был озноб, опухли ноги. Она бросилась на постель и спала целый час. А потом писала последнее письмо принцессе Елизавете, сестре убиенного короля. И много плакала над этим письмом…
В шестом часу пора было одеваться для встречи с гильотиной. Дочь тюремщика пришла ей помочь. Она попросила девушку прикрыть ее от жандармов, дежуривших день и ночь в камере. Но поняла, что этого недостаточно, и сказала им: «Во имя чести позвольте мне переодеться в последний раз без свидетелей».
У жандармов хватило совести выйти на время из камеры.
Она торопливо оделась в жалкое белое платье. Робеспьер оставил великой моднице только два платья – черное и белое. Оба очень износились. Она сама выстирала белое платье во время прогулки во дворе тюрьмы в маленьком фонтанчике у стены. И всю ночь накануне штопала его и гладила.
Тюремщик, рассказавший все это Сансону, принес в Трибунал последнее письмо королевы. Сансон видел его. Ему повезло… Кстати, ему удалось увидеть и последнее письмо короля перед казнью. Оно было написано каллиграфически ровным, равнодушным почерком. У нее же многие буквы расплылись, потому что она плакала… Письмо было большое, и Сансон за двадцать минут, пока оно было в его руках, сумел переписать всего несколько абзацев.
Он дал мне прочесть свои каракули. И, несмотря на его жаркие просьбы ничего не писать, я сделал копию. «Четыре пятнадцать утра. Сестра, меня только что приговорили к смерти. Но смерть позорна только для преступников. А меня они приговорили к свиданию с Вашим братом…
Пусть мой сын никогда не забывает последних слов своего отца, которые я не устаю горячо повторять ему: «Никогда и никому не мсти за нашу смерть…»
Я прощаю всех, причинивших мне зло. И я прошу у Господа прощения за все грехи, которые совершила со дня рождения. И надеюсь, Он услышит мою молитву…
У меня были друзья. И мысль, что я навсегда разлучаюсь с ними и что эта разлука принесет им горе, является одним из самых больших моих земных огорчений, которые я уношу с собой в могилу».
Так что перед свиданием с палачом она вспоминала о Вас, граф…
В Трибунале Сансон договаривался о карете, на которой повелительница Франции должна была отправиться на казнь. Кареты после революции стали редкостью – знать бежала в них за границу..
И тут произошло отвратительное.
Фукье-Тенвиль объявил, что он один не может решить «такой важный и трудный вопрос». Он послал за советом к Робеспьеру. Но тот тоже ничего не решил и переправил дело назад – на усмотрение Фукье-Тенвиля. И тот, уже поняв, чего хочет хозяин, с адской улыбочкой сказал Сансону: «Почему надо везти австриячку на казнь с этакими привилегиями?»
«Но так было при казни короля».
«За это время революция поумнела. Мы сейчас – страна истинного равенства. Так что королеву повезем в обычной телеге, в которой возят на эшафот обычных преступников. Тем более, как я слышал, это предсказал пострадавший за нее Казот. И нечего просить о глупостях, отправляйтесь в Консьержери заниматься своими делами. Уже в полдень вы должны показать гражданам голову вдовы Капет».
«Его грубость меня взбесила, – сказал Шарль Анри, – и, уходя, я пробурчал: «Мало ли что предсказал Казот… Например, что вам отрубят голову по решению вашего же Трибунала».
«А про вас – ничего?» – засмеялся Фукье-Тенвиль.
«Он предсказал, что отрублю ее я».
(Хотя я уверен, что палач все это только подумал, но сказать прокурору побоялся. Теперь в Париже люди смелы только в мыслях…)
В шесть утра мы с Сансоном вошли в старый замок – тюрьму Консьержери. Его брат остался в карете.
Перед тюрьмой храпели кони – отряд жандармов спешился. У самого входа расхаживали офицеры.
Было какое-то приподнятое возбужденное настроение, как во время праздника. И все время били барабаны. В маленьком тюремном дворе уже ждала позорная телега. Как раз заканчивалась женская прогулка. Какая-то очаровательная заключенная с тонкими слабыми руками («плющ нежности» – так назвали бы эти руки в Галантном веке) торопливо стирала белье в фонтанчике. (Потом я узнал, что это была маркиза де Ла Мезонфор.) При нашем появлении всех заключенных дам грубо загнали в камеры, и двор занял караул. Открыли главный вход – «улицу Мсье де Пари». «Улица палача города Парижа» ждала королеву Франции. Нас провели в ее камеру. Впереди шел Сансон, за ним я – в маске. Камера была перегорожена. Над перегородкой высовывались лица двух жандармов. Старые обои клочьями висели на стене. У стены стоял маленький столик, на котором лежала Библия. Кровать была в беспорядке – видно, она спала не раздеваясь, прямо на одеяле. Спала последний раз в жизни…