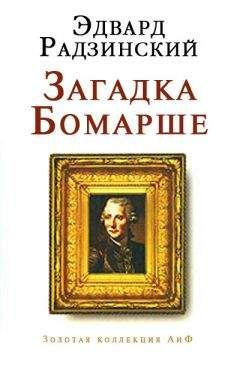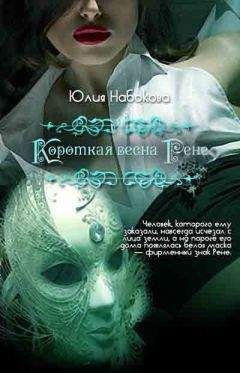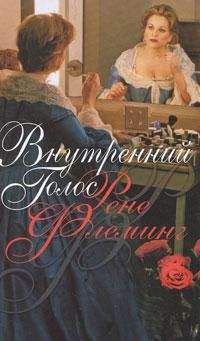Она была в том самом белом, заштопанном ею платье, плечи прикрыты косынкой. Она сама грубо остригла волосы, и седые, серебряные пряди мешались с белокурыми. Тонкий нос Габсбургов заострился. Белые бесцветные губы, изможденное лицо… Она сейчас была очень нехороша. Только лазоревые глаза и божественная легкая фигура были прежними…
Когда мы вошли, она молча надела белый чепец с черными лентами, прикрывший остриженные волосы.
Следом за нами вошли секретарь революционного Трибунала Напье и еще какой-то чиновник.
«Почему он в маске?» – шепотом спросил Напье, кивнув на меня.
(Забавно, но этот Напье, как я узнал недавно, следил за мной по приказанию Дантона. Вот была бы сцена, коли он стащил бы с меня маску!)
Сансон с важным видом ответил: «Это придумал гражданин Фукье-Тенвиль. Он сказал: «Пусть австриячка сразу почувствует холод грядущей смерти».
Напье хотел продолжить, но тут заговорила королева:
«Я хотела бы узнать, господа, передали ли принцессе Елизавете мое письмо?»
«Я такую не знаю, – ответил Напье. – Если речь идет о сестре казненного преступника Луи Капета, гражданке Елизавете Капет, то я передал ваше письмо, адресованное ей, гражданину Фукье-Тенвилю, общественному обвинителю в революционном Трибунале. Только он может решить судьбу подобного послания, гражданка Капет».
Королева помолчала и, взглянув в мои глаза – в мою черную маску, – сказала:
«Я готова, господа. Мы можем ехать».
«Протяните, пожалуйста, руки», – сказал Шарль Анри, избегая именовать ее «гражданкой Капет».
«Разве это необходимо? Я слышала, Его Величеству руки не связывали».
Как гордо это прозвучало: «Его Величеству»…
«Палач, выполняйте ваш долг, свяжите руки гражданке Капет», – приказал Напье.
Она одарила его презрительной улыбкой и протянула руки, как протягивают милостыню жалким нищим.
Сансон отвел их назад, связал, но его руки дрожали.
Я взглянул на ее платье и сказал хрипло:
«День сегодня холодный».
Она вздрогнула при звуках моего голоса. Я забыл: у нее был идеальный слух…
«Возьмите что-нибудь потеплее», – предложил Сансон.
«Вы боитесь, что я простужусь, господа? – спросила она и засмеялась, став на мгновение самой собой. – Благодарю вас за заботу, но она излишня. Все исполняют только свои роли. Вы – палачей, я – королевы».
Взгляд ее задержался на мне. Она внимательно глядела в прорезь маски.
И вдруг добавила, улыбнувшись: «Прежде я не любила играть эту роль… Я была не права. – Она встала. – Идемте же, господа. Не стоит мешкать».
Клянусь, она меня узнала! Так что последняя строка ее письма была адресована Вам, а последняя фраза перед эшафотом – мне, граф!
Выходя, она ударилась о низкую притолоку, но даже не вскрикнула. Она всегда высоко держала голову и так и не научилась ее наклонять…
Но когда она увидела позорную телегу – грязную, с доской вместо сиденья, – вот тогда она содрогнулась! Однако не проронила ни слова.
Телега был высока.
«Вернитесь в карету и принесите табурет», – сказал Сансон.
Я понял его – и вернулся в карету. Оттуда вместо меня с табуретом выпрыгнул его брат. Все та же бородка торчала из-под маски…
Он подставил табурет и помог ей взобраться. И из окна кареты я видел, как она поблагодарила взглядом меня… то есть уже его!
Он уселся на козлы рядом с Сансоном, жандармы на конях окружили телегу, и ворота со скрипом начали раскрываться.
И тысячи вопящих и проклинающих ее людей встретили жалкую телегу, последний экипаж – революционный экипаж! – французской королевы.
Телега загрохотала по улице. Следом двинулась коляска Напье, окруженная национальными гвардейцами.
Ворота закрылись Я остался один в пустой карете.
«Трогай! – приказал я жандарму на козлах. – К площади».
Он послушно стегнул лошадь, будучи уверен, что везет еще одного помощника палача. Вокруг Консьержери уже не было ни души. Толпа устремилась за телегой с королевой Франции.
Из окна кареты я видел, как телега въехала на мост.
Королева возвышалась, сидя на скамье, с завязанными руками, в белом чепце и белом платье. Прямая спина, гордо откинутая голова…. Телега качалась, но ее спина оставалась прямой.
А народ, заполнивший набережные и мосты, кричал: «Смерть австрийскому отродью!» Я успел увидеть, как кто-то бросился мимо жандармов к телеге и поднес кулак к лицу королевы. И толпа заслонила сцену…
В густой толпе карета двигалась медленно. Не стоило искушать судьбу. Я велел жандарму остановиться, вышел и сказал, что дальше пойду сам, так будет быстрее.
Жандарм пробормотал что-то вроде: «Давить людей он не может», – и повернул назад к Консьержери. А я, сняв маску, направился к площади Революции, где должна была состояться казнь.
Очередная пьеса Бомарше и на этот раз оказалась совершенной.
В кафе неподалеку от площади я увидел Давида. Он сидел, окруженный толпой зевак, и рисовал.
Я не поленился, подошел посмотреть. На листе возникала только что проехавшая королева. Я завороженно смотрел, как появлялись ее чепец, прямая спина и острый нос…
Давид отправлял королеву в вечность. Теперь она останется навсегда в его рисунке.
Но эта задержка у кафе оказалась роковой, ибо я не увидел казни.
Я быстро шел по улице Сент-Оноре и уже приближался к площади. Была четверть первого. И тогда я услышал могучий вопль толпы, донесшийся с площади: «Да здравствует Республика!»
Я понял: свершилось! Я не успел!
«Да здравствует Республика!» – дружно крикнули сверху веселые голоса.
Я поднял голову и увидел трех смеющихся молодых мужчин. Это были Робеспьер, Дантон и Демулен. Они стояли в окне дома Робеспьера, и люди внизу рукоплескали им.
А там, на площади, люди рукоплескали отрубленной голове королевы. Ее носил по эшафоту сам Сансон.
И еще одну ночь я провел в доме палача.
Шарль Анри рассказал мне вечером, что эшафот специально поставили прямо напротив главной аллеи Тюильри, которую она так любила.
Когда Сансон готовился дернуть за веревку, он услышал ее голос: «Прощайте, дети. Я иду к Отцу».
И все заглушил загремевший нож гильотины…
И самое потрясающее: когда ее голову показали толпе, голова вдруг открыла глаза. Видимо, сдерживая страх, королева до предела напрягла мускулы лица. Они сократились на отрубленной голове, и оттого поднялись ее веки, и мертвые глаза взглянули на радостно кричащую, гогочущую толпу.
И вмиг толпа замолчала…
А потом глаза закрыли, голову положили между ног. Тело залили известью и в грубом деревянном ящике отвезли на кладбище у церкви Святой Магдалины и закопали в безымянной могиле. Оставшееся после королевы изношенное черное платье отдали в богадельню.