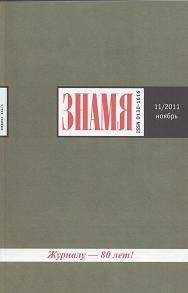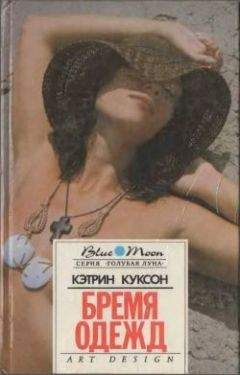С этим было связано тайное желание "вернуть свое детство", страстное желание видеть, как оно всплывает в памяти, подобно видению, хотя поток этих воспоминаний и заставлял его пятиться в ужасе. Но стоило только преодолеть эту дрожь, предваряющую всякое движение вглубь, — и вот перед ним его раннее детство, пронизанное тем изначальным чувством без-опасности, которое не нуждается ни в каких страховках и гарантиях. Именно это ощущение, и только оно, вызвало тот заряд свободы в книге, которую ему предстояло написать.
Я верю во все то, что еще не сказано.
Я хочу выпустить на волю свои самые
благие вспышки.
Однажды я, сам того не желая, сделаю то,
чего еще никто не дерзнул желать.
И да простит меня Бог, если это высокомерие
................................................................................
И если это гордость, дай мне быть гордым,
произнося молитву.
Даже если всякий творческий процесс порождает дух соперничества между человеком и творцом в человеке — пусть даже мы знаем, сколько в нем от первого и сколько от второго, — Райнер считал, что предметом его искусства был Бог сам по себе, Бог, подающий знаки о своем отношении к тайникам его жизни, ко всему самому безымянному, лежащему по ту сторону осознания своего "я". Его миссия — художника, творца — проникнуть невыносимо глубоко, затронуть все самое человечное, всю слабость, туда, где эта миссия может потерпеть фиаско, где спрятано то, чья суть совпадает с Объектом его творчества.
Так мы можем понять отчаянье Райнера как его фатальную черту: не как простое беспокойство ранимой души из-за потерь и утрат, сопровождающих любую жизнь, не как тоску всех мало-мальски артистических натур из-за временного угасания их творческой силы, которой невозможно приказать, а как абсолютное отчаяние существа, поглощенного бездной, в которой также исчезло то, что, не будучи частью нас, руководит нами и всем остальным.
Учитывая это, становится понятным, какой удачей для Райнера было знакомство с Роденом, творцом, подарившим ему реальность такой, какая она есть на самом деле, не искаженную сентиментальностью сюжета; он научил его, пользуясь моделью, совмещать многогранность творчества с многогранностью жизни, единые заповедь и закон которой — "работать не покладая рук" — побуждали его создавать вещи не от душевной тоски, от которой он искал убежища, а восторженно созерцая свою "modele" (отображаемый предмет). И пока Райнер приучался работать, посвящая себя конкретным занятиям, оставляя в стороне свои сиюминутные настроения, его обыденная жизнь, размеренная и загруженная занятиями и работой над книгой, постепенно подчинялась единой и верховной власти искусства. Уже давно он, полный надежды, рвался к этой цели — еще со времен кружка художников в Ворпсведе, когда Клара Вестхофф, ученица Родена, вышедшая вскоре за Рильке замуж, показала Райнеру работы учителя. Вне всякого сомнения, после переезда в Париж его душевная тоска дошла до высшей точки, пока не исполнились его горячие мольбы навсегда поселиться у Родена, полностью ему принадлежать, быть, по крайней мере для видимости, его личным секретарем, маскируя отношения близких друзей, которым оба отдавались беззаветно: ведь Роден был первым, кто подарил ему мир вещей как единое целое.
И не только мир вещей: господство над фантомами, рожденными из его кошмаров, надо всем самым ужасным, отвратительным и дьявольским, что возникало в его бредовых видениях. Если раньше его обостренная и патогенная восприимчивость изнемогала под тяжестью внутренней тоски, то теперь, как художник, он, погружаясь в тоску, дистанцировался от нее, причем таким образом, что его все возрастающий талант даже позволил ему осуществить посредством нее прорыв к свободе, пусть даже через произведение, лишенное этой тоски. Как все-таки вышло, что он смог постичь это только благодаря руке и дисциплине Родена? Исключительно потому, — и не стоит об этом забывать, — что для того, чтобы преодолеть внутреннюю нерешительность перед созерцаемым предметом из реальной жизни, Райнеру требовалось огромное усилие духа, заключавшееся в полном сосредоточении на этом предмете и абстрагировании от самого себя. Пусть подавленное, но подспудно, так сказать, неуловимо существующее чувство уже, может быть, сто раз отомстило бы, так или иначе деформируя реальность, и вырвалось бы на свободу, захлестнув его своей негативной волной, как в старые времена. Но как только ему удалось подойти к этому творчески, он открыл для себя двери новой сферы удовольствия. Это состояние удовольствия, начинавшееся с его первых успехов, осталось осознанным только наполовину. (Бесспорно то, что эта грань творческой свободы еще больше подталкивала его к опасности впасть в "расправу над вещами" в моменты разочарования, когда он называл себя бездарно-стью.) Позже, в 1914 году, Райнер назовет творцом того, кто хоть и не вынужден "растворить в себе все то, что он не властен подчинить, но в действительности делает это постоянно, чтобы извлекать субстанцию из того, что он изобретает и чувствует: из вещей, животных — почему бы и нет? — и, если это нужно, даже из чудовищ". Можно добавить: из собственной "чудовищности" тоже.
Несмотря на его огромную привязанность к Родену, чувствовалось, в какой степени природный дар Райнера — ибо он сам создал для себя свой образ Бога — диаметрально противоположен роденовскому.
Совершенно очевидно, что и их личные отношения не могли длиться долго, ведь малейшие, даже случайные недоразумения оставляли в них трещину. Для Родена проблему решало его блестящее здоровье и энергия, а так как первейшая задача жизни есть служение искусству, все, включая минуты беззаботной радости и разрядки, соединялось, чтобы обогатить его искусство. Для Райнера перенять манеру Родена означало превратить акт творчества в пассивное самоотречение, безоговорочное повиновение мэтру, который им руководил, и это ему отчасти удалось, в частности, благодаря собственной внутренней противоречивости, которая была его спасением, подавляя всплеск эмоций холодной властью цензуры.
Вот почему ничто, до довольно позднего появления его блистательных "Элегий" и "Песен Орфея", не могло дать такой сильный толчок творчеству Райнера, как описания Бедняков-которые-богаче-всех: хотя бы, для примера, эти судьбы влюбленных женщин, которые, насколько бы трагичными они ни были, все же привели к полному самоотречению, а значит, к ис-тинному владению собой. В "Первой Элегии" он так говорит о них: "Смотри на них, завидуй им, — покинутые женщины, чьей душе, переполненной любовью, нет успокоения". (См. Сонеты в переводе с португальского, 24 сонета к Луизе Лабе, "Письма Монахини" и т. д.)