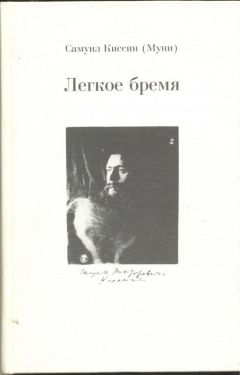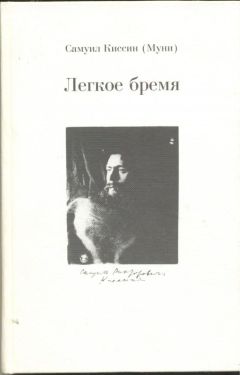Она попыталась сформулировать, что же потерял Добролюбов на пути религиозного возрождения и построения новой «церкви»:
Я же думаю, — что человек должен не закрываться от мира — пусть и греховного — ниоткуда, ни с какой стороны, стоять беззащитным перед всем, что идет вокруг него в мире, все видеть, никогда не закрывать глаз. (26 сентября 1911)
Бессмысленным считала она прятаться на земле от земного. Утверждение решительное, в устах интеллигентной консерваторской барышни! Этот предел, мне кажется, ощутила она в символизме и символистах, с которыми была близка: отстраненность, герметичность. Она решилась на поступок неожиданный, неординарный: уехала из Москвы на два года в маленький, провинциальный, Богом забытый Каргополь, из прежней своей жизни взяв только рояль, да и тот пришлось ждать почти полгода, пока не стали реки, не лег снег: рояль везли по реке на санях.
Решение ее не приняли близкие, считая, что она разбрасывается, и конечно, не могли объяснить каргопольские обыватели, видевшие из Москвы только ссыльных. Смеясь, писала она, что хозяйку ее спрашивали, правда ли у жилички над кроватью висят пять револьверов.
На два года погрузилась она в жизнь российского провинциального городка, любовно осваивая быт, получая неизведанное удовольствие от того, что впервые вставляла и конопатила окна, укладывая между рамами мох и веточки рябины, собирала в лесу бруснику и грибы, солила опята в бутылях, топила печь. Она думает и об организации концертов, и о создании музея народного быта, но главное для нее работа внутренняя: осознание себя и страны во всей ее телесной протяженности. Не случайно в Каргополе она открыла для себя исторические работы Пушкина и Евангелие.
В конце концов она признается Иоанне Матвеевне:
Это, если хотите, добролюбовство, правда, — но это тот Добролюбов, о котором написано предисловие Коневского к стихам в издании Скорпиона. Это желание найти все движение в себе самом, — но все, а не кусочек, отделенный от целого. (19 Октября 1911 года)[232]
Ей так хотелось поделиться обретенным богатством с близкими: она зовет к себе погостить Иоанну Матвеевну, сестер.
14 декабря 1911 года ее отправляется навестить Лидия Яковлевна, и Надежда Яковлевна выехала на лошадях, за 60 верст, в Няндому, встречать сестру.
Рядом с Муни жил совершенно удивительный человек, пытавшийся по-своему преодолеть противоречия символизма, объединив в гармоническом союзе земное и духовное, любовь земную и небесную, быт и бытие. Понимал ли это Муни, или также проще разглядеть на расстоянии, когда «кусочки» разных жизней соединяются в единый узор? Скорее всего она была для него просто «Наде», старшей сестрой жены. Во всяком случае единственная в семье она приняла Муни, заступалась за него перед Брюсовыми, объясняла его поступки, жалела, оправдывала, помогала материально. Прирожденная воспитательница, она и Муни старалась приобщить к духовной жизни семьи, центром которой был Валерий Брюсов. Она обращала его внимание на добролюбовцев и разбирала с ним стихи Валерия Брюсова[233]. Мы не располагаем сведениями о том, что между ними сложились близкие, дружеские отношения. Скорее всего их и не было: слишком близка она Лидии Яковлевне, слишком взваливала на себя заботы молодого семейства. Надежда Яковлевна следила, чтоб Лидия выучилась на химика. (Проучившись три года на историческом факультете, она перешла на химический. Возможно, свою роль сыграло и то, что в свое время В. Я. Брюсов хотел, чтоб Надежда Яковлевна стала химиком. И в этой области Л. Я. Брюсова преуспела — стала преподавателем, профессором, автором статей и глав в учебнике по органической химии.) А как много занималась Надежда Яковлевна с девочкой, родившейся в ночь с 20 на 21 января 1910 года! Она научила Лию играть на рояле и сочинять прежде, чем та узнала буквы. (Кстати, Л.С. Киссина окончила консерваторию и работала сначала в библиотеке Московской консерватории, а потом больше 20 лет в журнале «Музыкальная жизнь».)
Надежда Яковлевна писала Иоанне Матвеевне:
Лидуша и Лиюшка — это для меня мои дети, я о них беспокоюсь всегда, хочу знать все их дни, последовательность их жизни. <…>
Знаете, Janne, это чувства разные: любовь и жалость. К маленьким существам чувствуешь такую жалость, что она сильнее любви. Я так боялась за Лиюшку, за ее рождение, за ее жизнь после, что теперь она мне очень дорога, но и страх за нее все такой же. <…> Во мне все время есть уверенность, что Лиюшка жива, родилась живой (хотя все кругом говорили, что она не будет живой) и осталась жить — силою моей просьбы, — кому, я просто не знаю, как сказать, — но Мадонну Беллини я подарила Лиюшке, и пусть она ее хранит. Я мысленно называю ее — «чудесным детенышком» — чудом сохраненным… (30 сентября 1911 г.)[234]
Странным представляется мне, как согласился Муни жить в доме Брюсовых. Настояла ли на этом Лидия Яковлевна, захотевшая сохранить привычную обстановку, или же Муни не мог материально содержать семью, будучи чрезвычайно беспомощным и неудачливым во всех земных устроениях. В записках он называл себя приживальщиком, огорчался, но и после получения диплома на работу устроиться не мог. Кто только не помогал ему в попытках найти работу, любую, пусть не по профессии, в частности — Б.Л. Пастернак. С вопросом, нельзя ли получить работу в банке, он обратился к своему троюродному брату Федору Карловичу Пастернаку, банковскому служащему. Ответ был неутешительным:
Федя говорит (и это явилось вместе с тем ответом на мой вопрос о Муни), что множество юристов и людей со специальным образованием просят приставить их к банку, но эти предложения сильно превышают спрос. (10 июля 1913)[235]
Больную девочку надо было показывать врачам, возить на курорты. И пока Муни метался в поисках работы, материальную заботу о семье взвалила на себя Надежда Яковлевна, которой приходилось вести классы, давать частные уроки. «Очень хотела уничтожить некоторые дела и все-таки не решаюсь — денег нет совсем, Муня места никакого не может найти, хотя и ищет усердно, почти целые дни то по телефону разговаривает, то куда-то ходит»[236],— писала она Иоанне Матвеевне 13 января 1914 года.
Неудивительно: и в более простые и легкие для себя дни 1909 года Муни мечтал работать в «Универсальной библиотеке» — и не задержался там; Ходасевич ворчал, тяготился, раздражался и в течение почти десяти лет выпускал в этом издательстве книги своих переводов, антологии, составлял сборники современных и классических авторов, сопровождая их статьями.