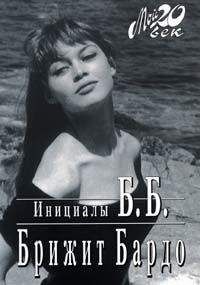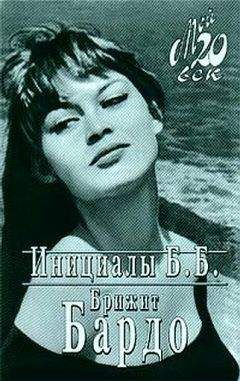За пышностью природы скрывались нищета, голод, смерть. Не сосчитать, сколько раздавленных собак, мертвых лошадей и ослов, погибающих от истощения животных видела я на наших дорогах!
Иногда, если я была не слишком вымотана, я ездила посмотреть на пирамиды Луны и Солнца. Жики запечатлел наши встречи с этими поразительными свидетелями прошлого. История манит меня, и, глядя на эти великолепные снимки, я до сих пор еще мечтаю.
Остатки древних цивилизаций глубоко взволновали и потрясли меня. Я могла часами смотреть на них, трогать их камни, пытаясь проникнуть в их загадки, в их историю.
Слава Богу, в Мексике не было «папарацци», и я могла почти спокойно любоваться диковинками, которые мне удалось посмотреть в немногие свободные часы.
Я побывала в разных странах, но больше всех я полюбила Мексику. В Мексику мне хотелось бы вернуться, о Мексике я храню самое глубокое и самое прекрасное воспоминание.
Пока Жанна в объятиях Джорджа Хэмилтона снималась в немногих любовных сценах фильма, которые она, говорят, основательно прорепетировала вне съемочной площадки, я поспешила в Хочимилько, мексиканскую Венецию, где гондолы, полные цветов, пьянящих своими красками и ароматами, скользили по воде каналов в густой тени, под звуки оркестров мариачис, разместившихся там и сям перед ресторанчиками.
Это была причудливая симфония дивного звука и света народной поэзии. Зрелище для туристов — да, несомненно, но в нем сохранилось что-то кустарное и архаичное. Я смотрела во все глаза, запасалась впрок незабываемыми воспоминаниями. Я жила.
Съемкам не было видно конца, я от них уже устала, а между тем это были еще цветочки.
Как Жанну, так и меня постоянно окружал шумный и назойливый мозговой трест. Гримерши, парикмахеры, костюмерши, импресарио, пресс-атташе, фотографы, друзья и дружки — целая армия болельщиков, готовая грудью встать за «свою».
Мы обе стали их собственностью, и они пускали в ход все средства, чтобы выжать из каждой максимум возможного в ущерб другой. Когда мы обе были заняты в сценах, наши гримерши, как тренеры боксеров, не только припудривали нам носы, но и нашептывали на ушко, указывая на мелкие недочеты в игре или в движениях. Наставлял нас Луи Маль, но тонкости исполнения на протяжении всех съемок подсказывала каждой ее гримерша: зная нас лучше, чем кто-либо, они помогли обеим избежать многих ошибок.
На войне как на войне.
У меня имелось перед Жанной преимущество в возрасте и во внешности. Я была моложе, красивее, лучше сложена, умела двигаться и инстинктивно играла на своей естественности, которая всегда с лихвой восполняла мои недостатки — лень и слишком вольные манеры.
Жанна брала своим отточенным умом, своим талантом опытной актрисы и играла на своих чарах, беспощадных и неотразимых. С рассчитанным профессионализмом она умела использовать любую ситуацию так, чтобы максимально блеснуть своими козырями. Играла она и на том факте, что у нее был с Луи бурный роман во время съемок «Любовников».
Даже если Луи и питал некоторую нежность ко мне, когда снимал меня в «Частной жизни», в его жизни я не занимала такого места, как Жанна. Правда, Луи собирался вскоре жениться на Анн-Мари, замечательной женщине, чистой, строгой, светской и прямолинейной, что должно было положить конец всем этим двусмысленностям.
Самые лучшие фотографы из самых знаменитых газет всего мира тянулись чередой на съемочную площадку. Все хотели эксклюзивной съемки, портретов, репортажей о нашей домашней жизни. Мне и без того хватало: съемки с утра до вечера, целый день гримироваться, причесываться, надевать все эти шляпы, корсеты, сапоги, я работаю до изнеможения, валюсь с ног от усталости, так пусть хоть в воскресенье мне дадут расслабиться, искупаться, поспать, погулять, поездить по стране.
Пусть меня оставят в покое!
И вдруг в один прекрасный день явилась мама Ольга. Она прилетела прямо из Парижа и в ярости потрясала пачкой газет с Жанной на всех первых полосах. Повсюду красовалась одна только Жанна, все писали только о Жанне, по-английски, по-французски, по-немецки, по-итальянски и даже по-японски.
Ох, мамочка! Кровь застыла у меня в жилах!
Затем Ольга рассказала мне, что Жанна уже торжествует победу. Что она видела в Париже отснятый материал, и все преимущества на стороне Жанны. Она сумела выгодно подать свою роль, особенно любовную сцену с Хэмилтоном, а я лишь оттеняла ее.
Ох, мамочка! Моя кровь закипела!
С этого дня для меня было вопросом чести выиграть пари, которое я заключила сама с собой, согласившись сниматься. Пусть Жанна вырвалась вперед на старте, уж на финише я возьму свое, как в покере. Беспечности моей как не бывало, я рвалась к победе, самолюбие и гордость двигали мной, удесятеряя мои силы. О! Они у меня увидят, то ли еще увидят, эти паршивцы-фотографы!
И они увидели. И весь мир увидел и видит до сих пор.
Сколько я фотографировалась — и вечером, и в 5 часов утра, едва проснувшись, и в воскресенье! Я открыла им двери: прошу, я вся ваша, дерзкая и порочная, улыбающаяся и надутая. Во всех ракурсах, во всех видах, со всех сторон. Я играла им на гитаре, пела для них, танцевала, вся такая задорная и чувственная, — в общем, я им выдала сполна.
На съемках я больше не капризничала по пустякам. Я догоняла поезд и карабкалась на ходу, перепрыгивала с вагона на вагон по крышам. Я рисковала сломать шею, ужасно трусила, но я это сделала. Я переходила вброд илистую реку, черную, вязкую, с пиявками, крабами и какими-то вонючими длинными водорослями. Вода доходила мне до подбородка, меня тошнило, я боялась ступать в этой мерзкой клоаке, но я это сделала. В Теколутле мне пришлось купаться в устье реки, где кишмя кишели акулы; рабочие били вокруг меня в барабаны, чтобы их отпугнуть. Один лишился там ноги.
Я умирала от страха, но я это сделала.
Мама Ольга не могла нарадоваться новому обороту событий и подарила мне на Пасху двух утят — они были совсем маленькие, пушистые, желтенькие, беззащитные и растерянные.
А у меня в то время уже жила собачка, которую я подобрала. Эта маленькая Гринга растрогала меня, когда, вместо того чтобы наброситься на оставленную для нее кость, прыгнула за мной в машину.
Трагедия разыгралась, когда один из утят, которого я прижимала к груди, выскользнул у меня из рук и упал в траву. Гринга моментально схватила его и разорвала в клочки. Я, пытаясь спасти утенка, в смятении упустила и второго. Сколько было крика и плача, какое горе! Гринга, терзая свою маленькую окровавленную добычу, второго утенка не заметила. Она получила хорошую взбучку и была заперта в моей комнате, пока мы, оплакивая крошечные останки, тщетно искали пропавшего братика. Все мои домочадцы ползали на четвереньках, обшаривая каждый уголок сада и дома.