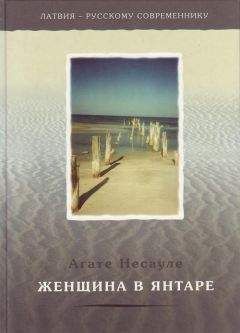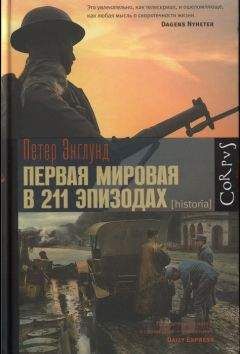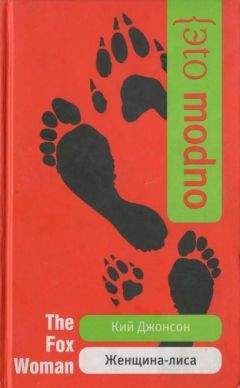Я лишила маму подарка, который единственный для нее что-то значил.
— Каждый день совместной жизни с ним будет для тебя мучением.
Это наполовину предсказание, наполовину проклятье.
— Я знаю, — говорю я. — Пожалуйста, прости меня. — Слова застревают в горле. Но мы хотя бы говорим по-латышски, и наш разговор не задевает Джо.
Если бы помогло, я бросилась бы перед мамой на колени и умоляла простить меня, до тех пор, пока она не простила бы меня и не обняла. Я рассказала бы о своих планах ни за что не бросать учебу, работать от зари до зари, преодолевать любые препятствия, даже если это будет Джо. Я получу образование, чего бы мне это ни стоило.
Но все это бессмысленно. Как если бы попытаться срастить искалеченную множеством плохо сросшихся переломов кость, которая на сей раз ломается навсегда. Последний, открытый перелом не заживет уже никогда.
Мамина черная сумочка неловко качается в ее руке. Она наклоняется подобрать содержимое вперемешку с осколками разбившейся банки: ключи, мелочь, записные книжки и ручки — дешевые вещицы.
— Пожалуйста, прости меня, — говорю я еще раз, когда Джо берет меня за руку.
— Уходим, уходим. С меня хватит.
По лицу мамы вновь пробегает презрительная усмешка, но тут же она сменяется такой безысходностью смирившегося со своим поражением человека, что я, не в силах этого вынести, говорю:
— Да, уходим.
— Уходи, уходи, — произносит мама. — Ты сделала выбор между мной и им, бросила латышей ради американцев, иди, иди с ним.
И когда я медлю, добавляет:
— Ты постелила себе жесткую и узкую постель. Вот и спи в ней.
— Ну, поехали, — торопит Джо. Он крепко держит меня за локоть и ведет к выходу.
Мама, скрестив руки на груди, начинает раскачиваться взад и вперед. Она смотрит мимо меня, смотрит на линию горизонта или туда, где была бы линия горизонта, будь она видна.
Я ставлю ногу за ногу, топчу следы, оставленные ковбойскими сапогами Джо. Я бросила свою мать, я совершила преступление, меня изгнали из латышской общины, я предала самое Латвию.
Когда я почти уже у машины, бабушка кричит мне вслед, называя моим любимым словечком:
— Агаточка, золотко, вернись на минутку.
Я останавливаюсь. Если я еще промедлю, то и это останется позади.
— Возьми, золотко мое, — говорит бабушка и протягивает мне сверток.
Я позволяю вложить его мне в руки.
— Новые простыни, Яша с Зентой прислали на мой день рождения, пусть у тебя хоть что-нибудь будет новое и красивое. Я ими еще не пользовалась.
— Я их взять не могу, — отвечаю механически.
— Возьми, золотко, тебе они нужнее, чем мне. Я и два полотенца положила, из новых, они еще очень хорошие. И синюю миску, мы без нее обойдемся.
— Спасибо, — говорю я.
Бабушка сует руку в карман передника и достает свой маленький красный кошелек для мелочи.
— Вот и это возьми, — говорит она.
— Не возьму. Это все твои деньги, — я знаю, что в нем около пяти долларов бумажками и мелочь, деньги, которые бабушке иногда присылают сыновья. Это бабушкина заначка на подарки и на мелкие удовольствия.
— Бери, — говорит бабушка, — тебе понадобится. Трудно тебе придется в новой жизни, одной в чужой стране, золотко мое.
Я беру кошелек с мелочью, который еще хранит тепло ее рук. Я дрожу. Ноги от холода посинели. Я забыла надеть чулки, и какая-то нитка, свисающая с подола толстой шерстяной юбки, неприятно щекочет голые щиколотки.
— Спасибо, бабуля, — говорю я.
Бабушка вытирает глаза, утопающие в мельчайших морщинках. У нее белый батистовый платочек с вышитыми фиалками.
— Спасибо, — еще раз говорю я. Мне кажется, что сама я никогда больше не смогу плакать.
— Счастливого пути, — говорит бабушка. Она делает попытку застегнуть мое пальто, но я уже спешу вниз по дорожке.
Возле машины я еще раз бросаю взгляд на дом. Бабушка все так же стоит на крыльце, смотрит на меня. Темная фигура отца виднеется в проеме двери, но мамы нет. Она, скорее всего, у себя в комнате, читает или делает вид, что читает, думаю я, садясь в машину к Джо.
А мама в это время кладет лицом вниз на доски, которыми закрыта двойная раковина, мою школьную выпускную фотографию. Потом ей приходит в голову еще кое-что. Она берет пинцет, вытаскивает фотографию из рамки и тщательно рвет ее на мелкие кусочки. Засовывает пустую рамку за сложенную на двойной раковине кипу библиотечных книг.
Снимает туфли, ложится, берет книгу, но в нее не смотрит. Взгляд ее прикован к темному горизонту, он далеко-далеко от дома.
— Ах ты, Иисус твою Христос, — говорит Джо. — Я должен выпить. Двойного. — Он сворачивает на стоянку возле бара «Звездный дождь». — Ты идешь?
Я послушно следую за ним.
— Ну и дела, — говорит Джо, — меня еще в жизни так не оскорбляли. Что им всем, черт их дери, надо. О Боже, мы всего лишь поженились. А что было бы, если б ты и в самом деле натворила что-нибудь ужасное?
— А я и натворила.
— Ну, снова завела, как чокнутая. Выйти замуж — это ведь ерунда. Нормальная женщина была бы мне благодарна. Если бы они вели себя не так мерзко, мы бы их пригласили на свадьбу. Если честно, они сами в этом виноваты, черт меня побери. Все равно, я от тебя без ума, мы друг от друга без ума, а все прочее не имеет значения.
Мне хочется верить Джо; было бы намного легче, если бы он был прав. Надеюсь, он поможет мне сохранить и что-нибудь хорошее.
— Может быть, если Беата выйдет замуж за Улдиса… — начинаю я. Беата недавно получила степень бакалавра политических наук в Индианском университете, она встречается с Улдисом, латышом, который родителям нравится.
— Видишь, какая дрянная твоя старуха. Спорю, что твои родичи на ее свадьбу отвалят немалые денежки, а тебе ни доллара не дали. Всю жизнь мне приходится терпеть такую несправедливость.
— У них нет денег. Я думаю, когда у мамы что-нибудь появится…
— Ладно, ладно, на сей раз сделаю вид, что ничего не случилось. Послушай, мы ведь друг от друга без ума? — Джо кладет руку мне на колено и стискивает его. — Ну ответь мне хоть один раз, а?
Он еще сильнее сжимает мое колено.
— Да, — отвечаю я.
— Ну так докажи это как-нибудь. Постарайся хотя бы сделать веселый вид.
Я улыбаюсь, он отпускает мое колено.
— На самом-то деле это было очень смешно, — говорит Джо. — Твой старик притворяется, что переживает, и тут же принимается что-то бормотать по-латышски, твоя старуха бьет меня сумкой, дерьмо летит во все стороны. Хорошо, что я парень ловкий. Чокнутые, — хохочет он, — из всего делают трагедию.