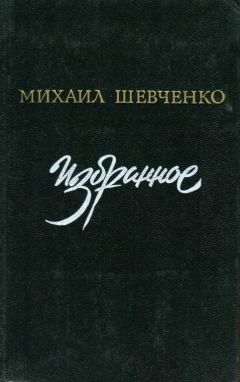— Ну, голубушка! Ну, ще разочек. Эх, сестра, не те силы. Да? Ну, ладно-ладно. Не будем тебя мучить.
Дед выпряг кобылу. Она отошла в сторону, понурилась. Взглянул на ее спину — следов батога нет. Молодцы — не били скотиняку. Разве тут битьем поможешь, коли сил не хватает? Молодцы — жалели животину.
— Ну, отдохни, родимая. Отдохни, голуба.
Дед перевязал вожжами оглобли. Снял с себя рубаху. Ветер загулял во взмокших волосах на широченной груди.
Впрягся дед в арбу.
— Ну, хлопчики, подсобить батьку!
Сыны все трое уперлись сзади в арбу. А дед перекрестился и потянул. Напрягся весь, то вправо подал, то чуть влево. Сдвинул с места.
И запел:
Зять на теще
Капусту возив,
Молоду жену
В пристежке водив…
Пошла арба. Пошла!
Дед вывез ее аж на взгорье. Кобыла топала следом.
Дед остановился, вышел из упряжки. Вытер ладонью пот на лбу. Подошел к кобыле и погладил ее по храпу.
— Бедняга. Куда ж тут тебе вытянуть, як сам я насилу вытянул!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Раскулаченный, дед Поляк умер от голода и холода по дороге в Сибирь.
1980
Родных бабушек своих не застал я на земле. А бабушка Щипийка (не знаю, откуда у нее пошло такое прозвище) была в моем детстве каждый день, до тех самых пор, пока меня, семилетнего, не увезли жить в город.
Когда я появился на свет, бабушке Щипийке по метрикам было за восемьдесят. Она жила одна, но ни в чьей помощи не нуждалась. Во всяком случае, так казалось всем. Она сама копала свой огород, сама сажала на нем картошку, кукурузу и подсолнухи. Перед окнами на улицу у нее росли мальвы.
Бабушка никогда не жила только своими заботами. Она всегда кому-нибудь из соседей в чем-то помогала. Один просил ее понянчить дите, другой — проводить корову в череду, третий — встретить телку из череды…
Меня бабушка почему-то звала Шведой. Когда я убегал с хлопцами из дому и мать, сбившись с ног, искала и не находила меня, бабушка Щипийка помогала ей в поисках и приговаривала:
— От Шведа!.. Куда ж вин залывся?..
Под ее призором я был долгие летние дни, когда мать с зари до зари работала на колхозных полях. То в сад ко мне придет и принесет вкуснейший окраец хлеба, то позовет к себе в сад и предложит грушу-дулю — вот такенную, с кулак; у нас тоже были груши, но ее почему-то казались вкуснее. Но самое что ни на есть вкусное было у нее — это тюря. В глиняную чашку наливала она родниковой — из яру — воды, клала туда ложки три сахару-песку и крошила хлеба. Ах, какая же это была вкуснота!..
Когда мы с матерью сажали огород, мать копала лунки, а я бросал в них картошки, обычно перерезанные надвое, — чтобы можно было больше посадить. Мать наказывала класть картошку порезом к земле, — ростку тогда легче всходить. Это значит, надо было нагибаться над каждой лункой. И хотелось бросить все и сбежать куда-нибудь с ребятами. Бывало, я изводил мать нытьем: «Ну, скоро ли кончим?.. Скоро ли, мама?..»
И тут-то появлялась у плетня, разделяющего наши огороды, бабушка Щипийка.
Она тотчас замечала мое нетерпение и нерадивость и заговаривала с матерью. И было смешно, как она, к кому бы ни обращалась, не называла сразу точное имя.
— Машко, Пашко, тьфу, Гашко… Ну, хай ему грець, Грунько! А знаешь, у тэбэ така гарна картошка будэ!
— Дай-то бог, бабусю, — отвечает мать. — А чего вы так решили?
— Та як це чего? Хиба ж ты не знаешь? Ото коли сажае картошку дытына, да ще, знаешь, ото старается получше положить ее в лунку, — о-о, тоди картошка уродится така, шо один кущ выкопаешь и — целое ведро. От як!
Мать разгибается с трудом — болит поясница: и в колхозе с утра до вечера, и дома останется на какой день, так забот хватает, — и улыбается бабушке. А та добавит:
— Ты бачишь, по всей улице ни одного хлопца, ни одной дивчины немае на огороде. А твой Шведа помогае. От молодец! Будете с картошкой!..
И незаметно уйдет.
А уж я стараюсь. Стараюсь вовсю. Мать поглядывает на меня повлажневшими глазами. Бабушке скажет вослед:
— Спасибо, бабусю, за доброе слово.
Бабушка спасла жизнь деду моему Якову Ивановичу. Дело в том, что старшие сыны его — дядя Миша и дядя Ваня — в гражданскую войну командовали красными бронепоездами. Об этом, конечно, все знали. Сыны не раз заявлялись на побывку домой. И когда село заняли белые казаки, кто-то понаушничал. Осатанелый казак влетел в дедову хату, дед сидел за швейной машиной — он всю жизнь портняжил. Казак выволок его за бороду во двор.
— Где твои выродки, красная сволочь? — орал он.
Дед, бледный, поднялся на ноги и спокойно ответил, держа в руке иголку с черной ниткой:
— Не знаю. Мабуть, там, дэ им надобно буть.
Казак занес над дедовой головой шашку.
И тут бог знает откуда под казачью шашку ринулась бабушка Щипийка. На руках у нее был самый младший из дедовского семейства — дядько Леонид. Рядом бухнулись на колени перед казаком — тоже тогда еще девчушки — тетка Маруська и тетка Анька.
— Кого ж ты рубаешь? — закричала бабушка. — Ты бачишь, у ёго их двенадцать душ? Тоди ж и их рубай, сук-кин ты сын!..
Она подняла ревущего дядьку Леонида под самую шашку.
И дрогнул казак. Швырнул шашку в ножны. Выругался остервенело.
— Ну, с-старый, молись за нее! — Он метнул на бабушку жгучий взгляд и — пулей со двора.
Заводилой была бабушка Щипийка в колхозе. Случись надобность коровник побелить или амбары прибрать под новое зерно, бригадир шел к бабушке. Она пробегала по улице, и все бабы, побросав домашнюю работу, сходились управить колхозную нужду.
Чуть умаются, бабушка вынет откуда-то большой — от прялки — гребень, возьмет его в руки, как балалайку, и зальется:
Сыдыть баба в курени
Та й считав трудодни.
Ой, гоп-трудодень —
Заробыла кило в день!
И бригадир, бывало, хохочет. И бабы хохочут до коликов. А она уже выдает новую частушку, тут же по ходу составляя ее:
Ой, гоп-трудодень —
Заробыла кило в день.
Хоть и хлиба не дадуть,
Так у табель заведуть!
Бригадир утирает от смеха слезы. Бабы, как-то помолодев на глазах, орут:
— Так их, бабусю! Крой им правдочку!
А она в ответ:
Погуляю по Шпилю[4] —
Та нови песни стулю.
От тоди — хай люди ждуть! —
Вже ж да шо-нибудь дадуть!
Валится со смеху бригада. А бабушка мечется с гребнем, тоже помолодевшая и неугомонная.