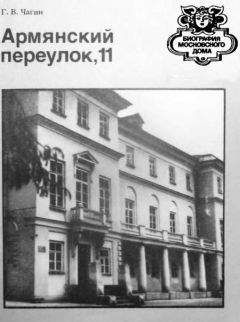Стояли подавленные. Многие вытирали слезы. Как быть? А через день бригады строем шли на работу. На спинах белели вытравленные хлоркой номера. Смотрели и плакали: «Даже у лошадей и коров есть имена, а мы — вещи нумерованные».
— Не могу я смотреть на эти номера, так и кажется, что в фашистском лагере опять — там с номерами ходили.
— Страшно!
— Что дальше будет?
Вернувшись из-за зоны, сообщили: видели на разгрузке вагона бригаду мужчин. Тоже все нумерованные — на телогрейках, на брюках, на шапках. Один крикнул нам:
— Майданек! — конвоир его за это прикладом.
— Страшно!
Я, собственно, не понимала, почему именно нумерование сблизило в сознании многих наш лагерь с фашистским? Почему номер так страшен? Равнодушно подставила подол платья, взяла бушлат. Осмотрела свой номер: Г-398. Что значит буква и цифра? Этот вопрос появился у многих. Стали искать объяснений: как построена нумерация? Нашлись грамотные статистики — растолковали: в картотеке лагеря фамилии стояли по алфавиту. Так и взяли букву. Номера, можно убедиться, или совпадают с первой буквой фамилии или с близлежащей. На каждую букву цифрами обозначают тысячу человек. Потом в следующую букву. На «К», это общеизвестно, всегда много фамилий. Оказалось, больше тысячи, и они захватили «Л».
Обрадовались, будто это легче. Загордились все: они думали, что нас задурят! А мы больше узнали. Знаем теперь, сколько тысяч сидит в Темниках: последние номера на «Щ». Послали «ксиву» (письмо) на центральный лазарет, проверить, совпадает ли. Вернувшиеся с лечения привезли ответ: точно, совпадает!
Есть неудержимое стремление у людей что-то выяснить в своей судьбе, постараться приоткрыть хоть какую-то тайну тех, распоряжающихся нами.
Еще о рукописях
Рукописи лежали в чемодане с двойным дном. А потребность писать дальше подсасывала, как голод.
Стих выковывает переживаемое в формулу. В стихе я давно научилась обходиться без записи. Проза дает свободу расположиться во времени, тут запись необходима. Шли мысли о юности, о становлении человека исследователем, о первых экспедициях. Они были в записях и возродили привычку связывать мысль с бумагой. И уже трудно было отказаться. Но как укрыть записи?
Нары нашей бригады стояли подряд. Я — в углу у стены. На соседней со мной вагонке долгоногая Марийка. Она тихонько вышивала, все думала о маленькой дочке, что осталась на Львовщине. Дальше — Лена Борис с Волыни, Оленка-гуцулка, Рузя и Галя. В наших я уверена — не сболтнут, что пишу. Может, и можно, лежа в своем углу, записывать дальше, хоть наметки?..
Раз, откачав норму воды, мы возвратились в барак. Девчата, сидя на нарах, занимались своими делами. Я лежала в углу с карандашом и клочком бумаги.
Вошла Свидерская, толстоногая и толстозадая женщина, о которой говорили: стукачка! Для чего, если не для осведомительской работы, привезли здоровую, крепкую бабу на полуинвалидный лагпункт? Зачем она ходит по баракам и со всеми заговаривает? В лагерях трудно что-нибудь скрыть, «параши» быстро разносят новости.
На 10-м лаготделении скоро открыто стали говорить ей:
— Катись, Свидерская, нечего тебе делать в нашем бараке.
Она оборачивалась и, крикливо пререкаясь, уходила, тряся толстым задом.
Эта вот Свидерская сунула нос и неожиданно вошла к нам в барак. Сказала мне медовым голосом:
— Письма пишете? Говорят, сегодня почту будут раздавать...
— Не лазь по чужим баракам, Свидерская, — сурово сказала Лена Борис, — нам тебя не треба.
Свидерская, ворча, утряслась из барака.
— Худо, — покачала головой черноглазая Оленка. — Видала, падла, что вы не письмо пишете.
— Байдуже! — ответила Рузя. — Не посмеет стучать, слишком явно будет, ведь никого, кроме нее и нас, в бараке не было.
— Не сразу и настучит.
Прошло с неделю.
Вечером, перед отбоем, надзиратели пришли в барак и подошли к моим нарам.
— Индивидуальный обыск, — сказала надзирательница, ощупывая меня, — следуйте за мной.
Надзиратель остался рыться в тумбочке и под нарами, а она повела меня в кабинет начальника режима.
Там стояли принесенные из каптерки мой чемодан и рюкзак.
— Произвели личный обыск заключенной? — спросил важно начальник режима, одергивая под ремнем гимнастерку.
Надзирательница сказала:
— Осмотрела всю, товарищ начальник. Ничего не найдено.
Он смотрел оловянными глазами:
— Произведите обыск вещей.
Надзиратель вошел:
— Ничего нет, товарищ начальник.
Присоединился к надзирательнице. Она вытряхнула на пол содержимое рюкзака. Щупали каждую тряпку. Я неподвижно стояла у дверей. Косой, низкий солнечный луч прошел за окном по дорожке. Шумно верещали воробьи, у них шло вечернее совещание. Я — неподвижна. Мелкая дрожь под коленками и сухие губы.
— В мешке ничего нет, товарищ начальник!
— Приступайте к осмотру чемодана. Отодвиньте его. Заключенная, соберите барахло в мешок.
Стараясь, чтоб незаметно было, как дрожат руки, я засунула вещи в рюкзак. Опять выпрямилась.
Присев на полу, надзиратели пересматривали и выкидывали все из чемодана. Начальник режима, поскрипывая сапогами, прошелся по кабинету.
— Ничего нет, товарищ начальник, — сказал надзиратель, поднимаясь и захлопывая крышку чемодана. Начальник удивленно остановился:
— Не нашли?!
— Ничего нет, точно.
Молчание...
— Убирайте барахло, — начальник с силой поддал деревянный чемодан ногой, так что тот перелетел к двери, ударился о порог. Звонко, с треском, лопнуло фанерное дно.
И по кабинету, по порогу и за порог разлетелись бумажные листья.
— Вот! Ловите! — крикнул начальник режима. Надзиратель бросился за дверь, ловить листы по дороге, надзирательница хватала их на полу, будто и тут они могли исчезнуть. — А-а! — торжествовал начальник. — Целый склад! Видали, чем занимается? Следствие разберет, что за бумаги... Раз-бе-ре-ет!
Ему уже виделся орден за открытие нового дела. Оловянные глаза блестели.
Я стояла деревянной чуркой, крепко сжав мышцы лица. Я уже испытывала раньше: холодная лягушка шевелится под ребрами, на ладонях пот, ноги ватные. И чувство пустоты. Но не показать...
— В барак! — сказал начрежима. — Отбой был. Надо идти спокойно. Не дать гаду радоваться... Надо дойти до барака совершенно спокойно...
Барак встретил меня напряженным молчанием. Не спали, но ни одна не подняла головы — в лагерях не расспрашивают. Я прошла в свой угол, разделась, легла на нары. Напряженные глаза девчат смотрели на меня.
— В последний момент он ударил ногой, и дно лопнуло, — тихо сказала я, — рукописи рассыпались.