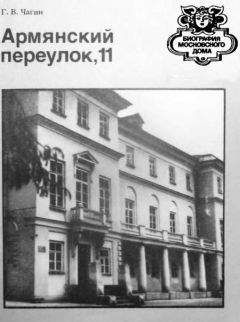Прибыл новый этап на 10-й... Я прибежала к Шатерниковой.
— Таня, ты знаешь, пригнали Ирину Львовну Карсавину, дочь Льва Платоновича Карсавина, профессора Петроградского еще университета, который написал в 20-м году книгу «Nogutis Petropolitanis».
— Книгу помню, интересная книга.
— В двадцать втором году его выслали за границу, вместе с Лосским и другими профессорами-немарксистами. Дочь была тогда еще девочкой. Попали они в Париж, она училась в Сорбонне, расскажет о Франции, об отце... Хочешь, я приведу ее к тебе?
У Тани светлеют глаза:
— Интересно... Приводи обязательно!
— Карсавина — сухонькая, черненькая, как галка, на отца непохожа. Тот был красавец с кудрями и огненным взглядом. Я слушала его лекции под портретом Владимира Соловьева, тогда еще висевшим в аудитории университета. И сам он был под Владимира Соловьева. Что стало с ним за границей?
— Талантливый был человек?
— Очень!
— Ну, жду, очень жду, приводи!
Ирина Львовна пришла. Села, подергивая плечами. Быстрые, сухощавые ручки ее все время двигались. Глаза, темные и горячие, как у отца, смотрели едко и настороженно. Она держалась а quatre epingeles, как говорят французы. И сама походила на француженку. Об отце рассказывала. Они долго жили в Париже, в тесноте эмиграции, тяготившей его. Она не любила эмиграцию, но любила Париж, Сорбонну, острые блюда и острые разговоры французской интеллигенции.
Она осталась в Париже, когда отец и мать перебрались в Литву. Отец стал профессором Вильнюсского университета, специалистом по истории литовского языка, литовские ученые обращались к нему за консультацией. Написал на литовском языке «Историю европейской культуры» в 7 томах.
— Как жаль, что на литовском, — сказала Таня, — ведь мало кто сможет прочесть.
— Отец говорил: кому надо, тот выучит язык и прочтет.
— А как он смотрел на историю европейской культуры? Как Шпенглер, ждал «заката Европы» или нет?
— Я не читала, меня мало интересует история культуры. Знаю, что говорил о росте государства, проводя аналогию с государством Древнего Египта. Он стал интересоваться египтологией одно время. А меня, знаете, мало интересовали эти экскурсы в прошлое. Не люблю абстрактных философических построений, — она засмеялась, подергиваясь: — Ему, вероятно, тоже сейчас не до абстракций. В 70 лет попасть в лагеря... Вряд ли выживет долго...
— Он когда же попал?
— Когда ваши советские войска освободили Литву. Я имела глупость приехать к ним в гости из Франции. Взяли его и меня... Мама осталась одна. Она писала мне, что отец в Абези, — губы ее опять передернулись, горько и зло. — Я давно не имею вестей о нем... Впрочем, это естественно... В германских лагерях стариков сжигали живьем. Здесь, кажется, не сжигают, но все равно они умирают.
Говорить с ней было трудно, временами казалось, она на грани бреда.
Относительно отца она оказалась права: Лев Платонович Карсавин умер в лагерной больнице в 1950 году. Впоследствии я узнала от мужчин, с ним сидевших, и от врача, который анатомировал его тело, что до последнего дня он интересовался не своей судьбой, а культурой человечества. Это — он выдержал. На анатомическом столе лежал старик с лицом прекрасным и значительным.
Этапы приносили вести о судьбах людей, которых мы никогда не видели. Еще в тюрьме я слышала, что вслед за мной была взята моя сослуживица по Институту этнографии — Юлия Николаевна.
В тюрьме она родила, а через два месяца сына у нее отобрали и отправили в Дом младенца. Тяжело шло следствие. Потом я узнала: она тоже в Темниках, на 13-м отделении, там же, где сейчас Ивинская.
— Ивинская? Кто такая?
— Жена Пастернака, сидит за него...
— Значит, и он арестован?! — заволновалась интеллигенция.
— Вероятно, да. Она говорит, взяли за то, что получила хвалебную книгу о Пастернаке, написанную в Америке... Красивая женщина...
— А про Бориса Леонидовича ничего не знаете?
— Говорят, в лагерях, где-то у Котласа...
— Боже мой! Пастернак?!
Мы качали воду для бани, когда прибыл этап. 30 женщин стояли у вахты. Девчата побежали смотреть. Вахтеры, как всегда, отгоняли их от вновь прибывших. К ним не пускали, пока не приняты, но лагерь успел узнать: с 13-го, не инвалиды.
Их поместили в рабочий барак, в соседнюю с нашей секцию. Окончив качать, пошла туда. Как всегда с новым этапом, суета, груда вещей на полу, размещение по нарам. Мне указали: вон Ивинская, та самая!
Она стояла в распахнутом бушлате, что-то взволнованно говоря, кому-то доказывая:
— Так нельзя, ну просто немыслимо! — Платок сполз у нее с головы, открыв пышные светлые волосы.
— Ольга Всеволодовна, — позвала ее какая-то женщина, — вот свободное место на нижних нарах.
— Ну и слава Богу! — просияла она, подхватив свой чемодан.
Мы познакомились с ней на следующий день.
— Я встречалась с Борисом Леонидовичем у Андрея Белого. А после войны уже раз заходила к нему на Лаврушинский, — сказала я ей. — Могли бы мы с вами и там встретиться, а вот где пришлось.
— Да, лучше бы там... Меня, вероятно, дома не было.
— Скажите, где Борис Леонидович, что с ним?
— Я от него ничего не имею, но мама моя писала, что он где-то под Вяткой, здоров. Обещала переслать его открытку.
Через несколько дней она получила и письмо и огромную посылку. Щедрой рукой угощала всех, устроила целый литературно-гастрономический пир на своих нарах. Мы, человек пять, сидели, поджав ноги, на нарах, пили чай, слушали стихи — она знала очень много стихов Бориса Леонидовича. Говорила о нем. Ольга Всеволодовна забавно и мило изображала, как он на даче раскланивается с деревьями, беседует с кошками. Рассказывала, что у нее есть сиамский кот, которого он очень любит. Она умела видеть смешное и рассказать о смешном. Не только рассказать, передать интонации Бориса Леонидовича, жесты и выражения в быту. И нежность, и восхищение Пастернаком передавались ею в одежде шутки. Мне очень нравилось это. Я повела ее в полустационар к Татьяне Михайловне и Нине Дмитриевне — угостить их стихами.
Вечерами, сидя в темноте на нарах, мы много говорили о судьбах литературы, о поэзии, читали друг другу и свои стихи.
Пришло письмо из дома, в нем открытка, написанная почерком Бориса Леонидовича, — несколько теплых, заботливых слов, без пометки — от кого и откуда, и фотография ее детей.
— Это — Ирочка, от первого брака, а это Митрон, — сияя, показывала она. — Какой большой стал!
Я рассматривала тонкое, задорное личико девушки и пучеглазого мальчика.
— Пожалуй, он похож на Бориса Леонидовича...
— Да, находят, что похож, — кивнула она пушистой головой, — и Борис Леонидович очень любит его...